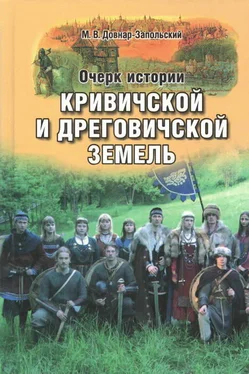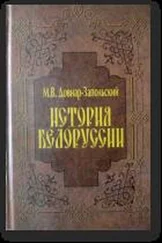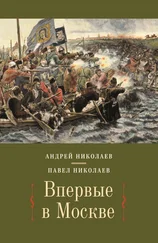Уже Арцыбашев заметил относительно этого известия Татищева: «Мы не смели без точных летописных слов ввести этого переведеннаго отрывка в наше изложение». — Авт.
Как известно, Татищев многие географические имена читал неверно в рукописях. — Авт.
Сообщение о кривичах в Тверской летописи: «Кривичи еже живутъ на върхъ Волги, и на върхъ Двины и на върхъ Днепра, ихъ же градъ есть Смоленескь и прочiе Полотскiе власти» (ПСРЛ. Том XV. Тверская летопись. М., 1965, с. 21–22).
С. Тарасов отметил: «Полоцк, как столица государства, сыграл исключительную роль первотолчка в длительном и противоречивом процессе складывания беларуской нации» (Тарасау С. Пачатак часу i прасторы // Полацк: каранi нашага радавода. (…) Полацк, 1996, с. 19). Почти аналогично суждение Г. Штыхова: «Кривичи-полочане, или полоцкие кривичи, — население, которое сыграло весьма значительную роль в древней истории Беларуси и положило начало нации, которая теперь называется беларуской» (Штыхау Г. Полацкая крывiчы // «Полацак», 1991, № 8, с. 5).
См. у В. Шадыры: «Традиционое отнесение летописных групп кривичей, кстати как и дреговичей с радимичами к чисто славянским племенным объединениям в научном плане не совсем верно» //Шадыра В. Вялiке перасяленне народаў i крiвiчы // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. 1995, № 7, с. 210.
Это не ошибка — так в оригинале. Выпуская книгу на русском языке, издательство почему-то считает возможным коверкать этот язык по своему усмотрению. ( прим. OCR )
Намного более полную картину могло бы дать дополнительное исследование гидронимии бассейна Двины. Предыдущие результаты (Катонова М. Данные гидронимии о балто-славянских контактах на севере Белоруссии // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981, с. 177–184) имеют предварительный и фрагментарный характер, из чего проистекает и далеко неоднозначная их интерпретация. Повторный лингвистический анализ гидронимии региона с учетом новейших достижений науки вполне оправдан и перспективен.
Вот суждение В. Топорова: «Чрезвычайно интересно то, что понятие “славянский”, употребляемое в традиционном смысле, меняет (а отсюда и теряет) своё значение также и в свете ряда иных достижений последних лет в области реконструкции этнолингвистической карты Восточной Европы….Иначе говоря, для этой части Восточной Европы “славянский” элемент, как он понимался до сих пор, для определенной эпохи, когда балтский элемент был бесспорно актуальным, оказывается фикцией» (Топоров В. К вопросу о балтизмах в славянских языках (теоретический взгляд) // Latvijas PSR Zinātņu akademijas vēstis. 1973, № 2, с. 95).
Близкой к этому суждению мысли придерживался М. Артамонов: «Вследствие того, что славянские памятники, которые определенно относятся к VIII веку, в Верхнем Поднепровье до сих пор не обнаружены, славянский период на этой территории (…) надо начинать с IX века» (Артамонов М. Некоторые вопросы отношений восточных славян с болгарами и балтами в процессе заселения ими Среднего и Верхнего Поднепровья. // Советская археология. 1974, № 1, с. 254).
Кальмер Ю. Археологические древности Руси // Stratum. 1999, № 5. Неславянское в славянском мире. // Кальмер допускает, что проникновение «руси» в Среднее Поднепровье и ее знакомство там со славянскими группами могло произойти уже в конце VIII — начале IX века. Соответственно в то же время могла начаться и славянизация «руси», которая в конце концов и превратила ее в основной фактор распространения элементов славянской культуры и языка на пространстве Восточной Европы.
Э. Зайковский допускает, что «приток славян-переселенцев количественно был не так уж и велик, поэтому славянизация туземцев происходила прежде всего благодаря славянским городам, княжеской дружине, а с конца X века — христианской церкви, поскольку христианизация вела и к славянизации» (Зайкоўскi Э. Балты цэнтральнай i ўсходняй Беларусi у сярэднявякоўi // Гiсторыя, культуралогiя, мастацтвазнауства: Матэрыялы III Мiжнароднага кангрэса беларусiстаў «Беларуская культура ў дыялогу цывiлiзацый» (Мiнск, 21–25 мая, 4–7 снежня 2000 г.) (Беларусiка = Albaruthenica. Кн. 21). Мн., 2001, с. 37).
По мнению В. Зоценко, норманны проникли в Среднее Поднепровье после неудачных попыток закрепиться в Восточной Прибалтике. В результате длительного контакта этих норманнов с балтами варяжский корпус в Киеве поначалу имел специфический «балтизированный» характер (Зоценко В. Пути проникновения скандинавов в Среднее Поднепровье в IX–X вв. // Труды V Международного конгресса славянской археологии (…). Том III. Вып. 1а. Секция 5. Города, их культурные и торговые связи. М., 1985, с. 87–93).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу