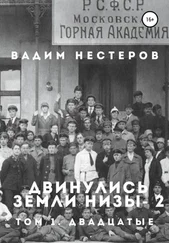Но увы – подданные проявляли строптивость, начатые войны никак не заканчивались, о порядке в государстве не было и речи. Поэтому через некоторое время царь, отбросив мечтания, снова принимал бразды правления в свои руки. Так и сейчас – Симеон Бекбулатович правил всего одиннадцать месяцев, а потом все вернулось на круги своя.
В августе 1576 г. Иван Васильевич вернулся на трон, а уже в следующем, 1577 г., он затеял большой поход против Южной Ливонии, посягнув на земли, находящиеся под властью Речи Посполитой. Надо сказать, что боевые действия в Ливонии не прекращались никогда, правда, московские войска в период «межкоролевья» по понятным причинам не трогали литовские владения. Зато от шведских владений в Прибалтике почти ничего не осталось – помимо Пайде русские взяли еще и крупные порты Пярну и Хаапсала. По сути, в руках шведского короля Юхана III остался только Таллин, да и то, как сообщал таллинский хронист Бальтазар Рюссов, уже «на две мили пути от города» крестьяне должны были «платить этим русским такие же подати, какие платили своим немецким господам» [17].
Теперь настал черед владений Речи Посполитой – после того как на тамошнем престоле утвердился самый невыгодный для Ивана IV кандидат, церемониться самодержец больше не собирался. Возглавил собранное войско сам царь, в походе его сопровождал весь его двор, усиленный Симеоном Бекбулатовичем, ставшим после сведения с престола «Великим князем Тверским», и многими боярами.
Вел себя Иван неожиданно мягко – в ливонские замки, оказавшиеся на пути войска, посылались письма с предложением сдать крепость и обещаниями при таком исходе никаких казней не чинить, а гарнизон при желании волен будет свободно уйти в Литву. Небольшие, плохо снабжавшиеся гарнизоны, которым к тому же постоянно задерживали жалованье, не рвались воевать с огромной русской армией. Крепости сдавались одна за другой, и обещания свои царь аккуратно выполнял: сдавшиеся в плен возвращались на родину, а некоторых Грозный даже жаловал шубами. Царь сажал в крепости свой гарнизон, отдавал указание о строительстве православного храма и двигался дальше. Но с теми, кто оказывал сопротивление, поступали жестко – не обошлось без посажений на кол и продажи уцелевших противников татарам.
По итогам похода вся территория Ливонии на север от Западной Двины и Риги находилась под контролем русских, и Иван Васильевич, вероятно, счел ливонский вопрос решенным. Но, как выяснилось, он только выдал желаемое за действительное.
С конца 70-х гг. ситуация, в которой оказалась русская держава, стала стремительно ухудшаться. Униженный почти бескровным захватом земель, Стефан Баторий начал искать союзников и быстро их нашел. Ими стали шведский король Юхан III, также лишившийся владений в Ливонии, и крымский хан – все обиженные Грозным. Причудливый альянс складывался успешно – в августе 1579 г. посольство Крымского ханства даже посетило Стокгольм, подарив в ходе визита шведскому королю «красивого коня и двух верблюдов» [17].
Иван Грозный поначалу не воспринял угрозу всерьез – крымские войска не могли вести активных действий против России в силу того, что в 1578–1579 гг. поддерживали турецкого султана в войне с Ираном. Шведов же с литовцами, многократно терпевших поражения от русских армий, да еще и возглавляемых ныне «худородными» королями, царь не воспринимал всерьез. А зря.
Венгр Баторий, до конца жизни так и не выучивший ни польский, ни русский, ни литовский и общавшийся со своими подданными на латыни, оказался прирожденным полководцем. И начал он с реформы армии. В январе 1578 г. в Речи Посполитой был созван сейм, который утвердил высокие налоги на войну, в решениях особо подчеркивалось, что война должна вестись на чужой территории. Хотя основу польско-литовской армии по-прежнему составляла дворянская конница, новый король направил огромные средства на то, чтобы усилить армию пехотой – за счет нанятых отрядов немецких и венгерских наемников, а также рекрутского набора среди крестьян. Особое внимание было уделено артиллерии – пушечный двор в Вильне работал день и ночь, изготовляя орудия по собственноручным рисункам короля. При осаде городов Баторий применил новую тактику, которая заключалась в том, что деревянные в абсолютном большинстве русские крепости поджигались калеными ядрами.
Неудачи у русских начались еще в 1578 г., когда на сторону Батория перешел изменивший Грозному ливонский король Магнус. Отбить у него территории так и не получилось, да и многие из захваченных во время похода 1577 г. литовских крепостей в Ливонии вернулись прежним владельцам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
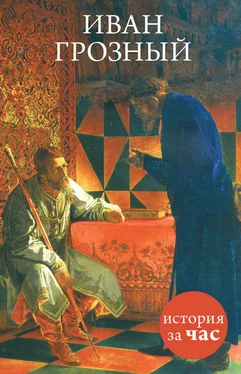
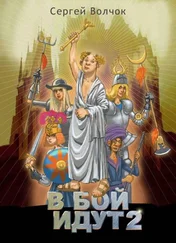


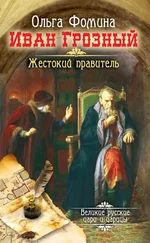
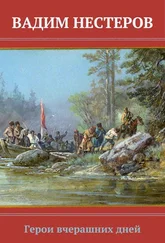


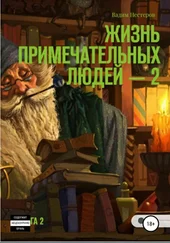
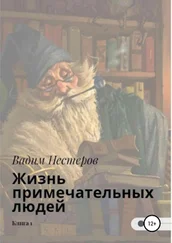
![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/430230/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si-thumb.webp)