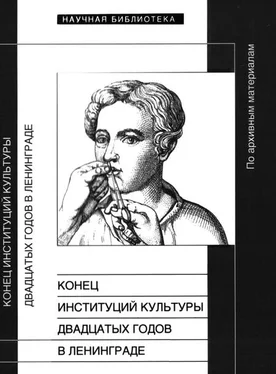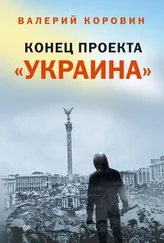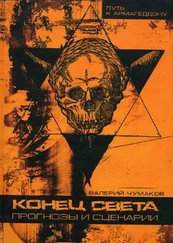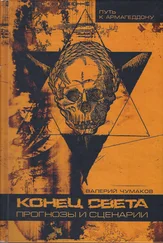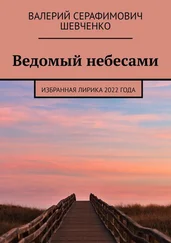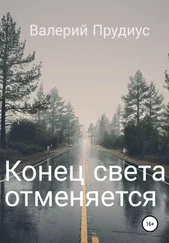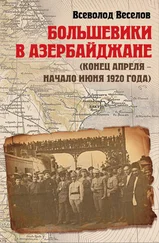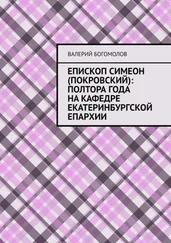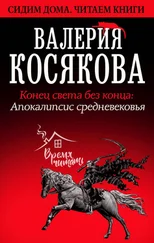Давление на идеологическую сферу оказалось более действенным. Мы имеем в виду первый пункт заключения ЛОГа, с рекомендацией Художественному отделу Главнауки «детально ознакомиться» с «методами, применяемыми в работах Института». В декабре 1924 года в Институт была направлена Комиссия под руководством представителя московского отделения Главнауки товарища А. М. Карпова. Она уже не скрывала свою чисто идеологическую направленность, являясь проводником государственной политики по внедрению социологического метода в изучение произведений искусства. Под социологическим методом понимался анализ произведений искусства с марксистских, а точнее с классово-идеологических позиций. Результатом ее деятельности было создание внутри научных и учебных заведений социологических комитетов. Внедрение подобных структур получило широкое распространение к середине 1920-х годов. Соцком был создан и в ГИИИ, причем раньше, чем во многих других научных центрах [25] См. об этом: Кумпан К. К истории возникновения Соцкома в Институте истории искусств (Еще раз о Жирмунском и формалистах) // На рубеже двух столетий: Сб. в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
.
В свое время нам приходилось писать о внутренних интригах в Институте во время смещения Зубова [26] См.: Кумпан Ксения. Казимир Малевич и сотрудники ГИНХУКа в ГИИИ (По материалам Центрального Государственного Архива Литературы и Искусства Санкт-Петербурга) // Pietroburgo — capitale della cultura Russa. Т. II. Salerno, 2004. P. 349–406. Дополнительные сведения, в основном о ранней биографии Назаренко, по документам архива РИИИ и из университетского дела см. в популярной заметке Т. Д. Исмагуловой «Институтская стенка и Яшка Назаренко» (Зубовский институт. СПб.: РИИИ, 2012. С. 25–37).
. Главной пружиной их был единственный к тому времени в Институте член ВКП(б) — сотрудник Я. А. Назаренко, по слухам, связанный с ГПУ [27] Назаренко не был штатным сотрудником ГПУ, о чем свидетельствует справка, полученная нами в Службе регистрации и архивных фондов ФСБ за № 481 от 6 декабря 2011 г.: «…В архивных фондах Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области <���…> сведений о работе (службе) в 1920-х гг. в органах госбезопасности НАЗАРЕНКО Якова Антоновича, 1893 г.р. не имеется».
. Пока был у власти старый директор, Назаренко не удавалось развернуться, но с приходом нового директора Ф. И. Шмита он стал быстро делать карьеру: вошел в Правление Института [28] Назаренко был директивно введен в Правление «согласно постановления Комиссии ЛОГ от 17 ноября 1924 г.» (ГА РФ, ф. 2307, оп. 4, ед. хр. 53, л. 36, 37).
и стал возглавлять Соцком. Заметим, что Комитет был официально учрежден 6 февраля 1925 года на заседании Правления; его председателем был избран А. А. Гвоздев, а ученым секретарем А. И. Пиотровский [29] ЦГАЛИ СПб., ф. 82, оп. 3, ед. хр. 11, л. 26 об.
. Но уже через полгода, на заседании Правления 9 октября 1925 года, была удовлетворена просьба Гвоздева освободить его от обязанностей председателя Соцкома [30] ЦГАЛИ СПб., ф. 82, оп. 3, ед. хр. 16, л. 5.
. Через несколько месяцев этот пост занимает Назаренко.
Ф. И. Шмиту приходилось все время лавировать и демонстрировать лояльность к новым наркомпросовским постановлениям и кампаниям. Конечно, положение директора требовало диалогических отношений с господствующей властью. Этого требовало и положение Института, постоянно находящегося под дамокловым мечом. Но в какой-то мере сервильность риторики в докладных бумагах Шмита можно объяснить биографическими причинами [31] Ф. И. Шмит, видный византолог, относился к числу тех либеральных профессоров старой формации, которые с радостью приняли Февральскую революцию, но не смогли сразу подчиниться большевистскому режиму. Во время деникинского правления он подписал опубликованное в местной харьковской газете воззвание интеллигенции, ратовавшей за освобождение от кровавого террора, и это его первое и последнее политическое выступление стало для него роковым. Дальнейшее отбывание наказания (был приговорен Харьковским чрезвычайным революционным трибуналом к трем годам принудительных работ условно) он был обязан фиксировать во всех анкетах, как и другие нелицеприятные для советского гражданина факты своей биографии (его старшие брат и сестра были эмигрантами, а он сам, во время Первой мировой войны оказавшись в Германии, находился какое-то время в статусе военнопленного — ЦГАЛИ СПб., архив Ф. И. Шмита, ф. 389, оп. 1, ед. хр. 157, л. 34). Очевидно, что при сталинском режиме он был обречен попасть под каток репрессий. Но в 1920-е годы этим фактам еще не придавали столь большого значения, и Шмит смог продолжать профессорствовать и был даже избран академиком.
. При этом, будучи воспитан в традициях старой интеллигенции, Шмит искренне хотел постичь, в какой мере спущенная сверху социологическая методология применима к произведениям искусства. Он считал себя теоретиком и методистом и, будучи систематизатором и классификатором, серьезно подошел к изучению вопроса, о чем свидетельствуют и его статья «Проблемы методологии искусства» [32] Проблемы социологии искусства. Л.: Academia, 1926. С. 9–71.
, и брошюра «Предмет и границы социологического искусствоведения» [33] Шмит Ф. И. Предмет и границы социологического искусствоведения. Л.: Academia, 1927; под тем же названием вышло 2-е расширенное издание в 1928 г.
.
Читать дальше