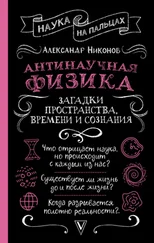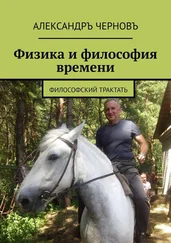Чтобы объяснить свои идеи о направленности времени, ученый предложил представить ряд событий как функцию времени. Он называл это пространственно-временной диаграммой и ссылался на Германа Минковского (мы говорили о нем в главе 6). Однако давайте рассмотрим менее абстрактный вариант, который все же сохраняет основные элементы такой диаграммы, – кусок кинопленки. (Вспомните время, когда кинофильмы снимались отдельными кадрами на пленке, а не путем записи бит информации в памяти компьютера.) Если вы взглянете на отдельные кадры, сможете ли сказать, какая сторона перед вами – лицевая или обратная? Определить это весьма затруднительно, пока вы не увидите какую-нибудь надпись, например дорожный указатель. Если буквы в указателе

вы видите в зеркальном отображении, значит смотрите на пленку с ее обратной стороны. Большие объекты (горы, деревья и прочие элементы пейзажа) в значительной степени симметричны. Люди в зеркале тоже такие же, как в отображении, а вот предметы культуры – нет. В биологии симметрия также часто нарушается: например, большинство людей праворукие, и молекула обычной сахарозы повернута вправо.
Следующие вопросы: можете ли сказать, в каком порядке следует прокручивать кинопленку? Какова последовательность кадров? Как раз это Эддингтон называл образом-символом стрела времени . Если бы, например, на пленке было запечатлено движение планет вокруг Солнца, скорее всего, вы не смогли бы указать правильный порядок кадров. Или если кинофильм был анимацией сталкивающихся в газе атомов, вы также не смогли бы его указать. Однако для большинства лент этот порядок был бы очевидным. Запустите пленку с неправильного конца, и люди на экране пойдут назад. Разбитая посуда подпрыгнет с пола и, невредимая, займет свое место на полке. Пули вылетят из мертвого тела и вернутся в дуло пистолета. Скользящие вниз по наклонной поверхности предметы ускорят свое движение, а не затормозятся под воздействием сил трения.
Ни одно из этих необычных событий не противоречит законам физики. Разбитое яйцо может восстановиться и запрыгнуть на стол – если бы молекулярные силы в нем были организованы именно так. Но это очень маловероятно. При движении вещей вниз по наклонной плоскости трение тормозит их, а не ускоряет. Удары разбивают предметы, а не собирают. Все эти явления имеют под собой совершенно определенное основание: второй закон термодинамики. (Первый закон термодинамики гласит, что энергия не может взяться ниоткуда или быть уничтоженной [то есть соответствует закону сохранения энергии]; разумеется, при определении энергии нужно пользоваться уравнением Эйнштейна E = mc ².)
Второй закон также гласит, что существует некая величина, называемая энтропией, которая либо остается постоянной, либо увеличивается. Сравните это с энергией, которая всегда постоянна. Она может переходить с одного объекта на другой, но ее сумма никогда не меняется. В отличие от первого закона термодинамики, второй закон не абсолютен, а вероятностен. Хотя он и может быть нарушен, вероятность его нарушения большим скоплением частиц исчезающе мала.
Энтропия и время увеличиваются вместе. Они коррелируют друг с другом. Это было известно. Новым в умозаключениях Эддингтона было то, что определяет стрелу времени именно энтропия. Она же ответственна за то, что время течет скорее вперед, чем назад. Эддингтон утверждал, что второй закон термодинамики объясняет, почему мы помним прошлое лучше, чем будущее.
Выдвинутая им идея о связи между энтропией и стрелой времени имеет такие далекоидущие последствия для нашего понимания реальности и, возможно, даже сознания, что, по мнению некоторых, о ней должны знать все образованные люди. Известный английский писатель и ученый Чарльз Сноу [99]в своей широко известной статье The Two Cultures and the Scientific Revolution [100], опубликованной в 1959 году, сожалел, что не все образованные люди знают об этом великом достижении науки. Он писал:
Много раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по стандартам нашей традиционной культуры считались высокообразованными и иногда с удовольствием говорили о «безграмотности» ученых. Пару раз меня провоцировали, и я интересовался, кто из этих людей может назвать второй закон термодинамики. Ответ был холодным и отрицательным. А ведь я всего лишь сформулировал научный эквивалент вопроса – читали ли они Шекспира?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
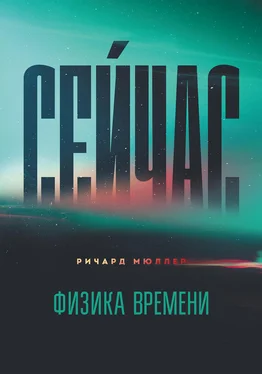

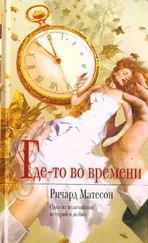
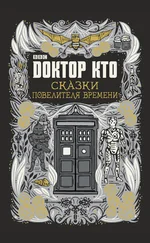
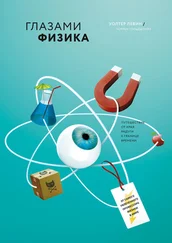



![Ричард Тукер - Гробница времени [Забытая палеонтологическая фантастика. Том XIV]](/books/407046/richard-tuker-grobnica-vremeni-zabytaya-paleontolog-thumb.webp)