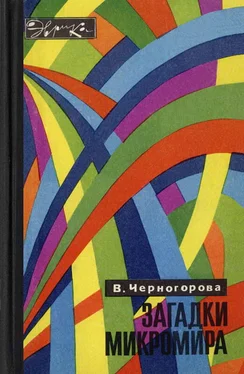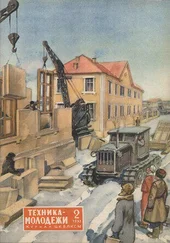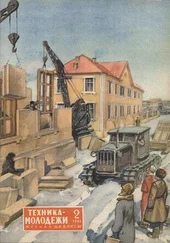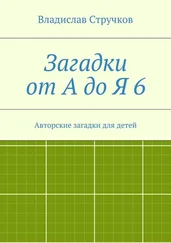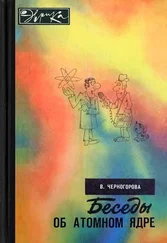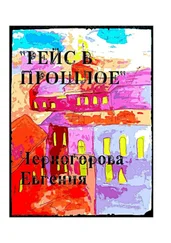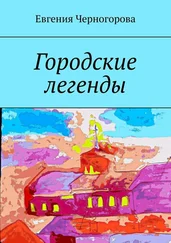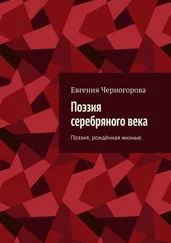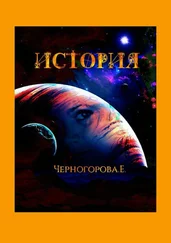Теория кварков претендовала на большее. Признав существование кварков, следовало тут же признать новый тип материи, атомизм нового типа с еще более «элементарными сущностями».
Гипотеза, предлагавшая продолжать приевшуюся игру в матрешки, была встречена более чем прохладно. Значительно позже академик В. Гинзбург писал, что «не все обязаны верить в существование „бесконечной матрешки“: открыл одну куклу, а в ней лежит другая — и так без конца». Возня с кварковым «конструктором» казалась теоретикам простой забавой. И они были по-своему правы.
Ведь все предыдущие попытки «строить» (теоретически, конечно) фундаментальные частицы из других реальных частиц не приводили к успеху. Можно было каждую частицу считать составленной из любых других с подходящими квантовыми числами. Но нельзя объяснить ее свойства с помощью этих частиц, из которых она якобы сделана. Они, образовав новую частицу, как бы теряют при этом свое «лицо».
Кварковая же модель настаивала как раз на таком примитивном построении частиц, но из трех сортов кварков, не теряющих свою индивидуальность. Вот почему упоминание об этой теории часто вызывало улыбку большинства ученых.
В этот-то критический момент и заговорил наконец великий «судья и мудрец» — эксперимент. Мгновенно разнеслась сенсационная новость: обнаружен омега-минус-гиперон! Заполнена десятка тяжелых частиц! Оригинал в точности соответствует заочно нарисованному портрету!
На Брукхейвенском ускорителе в США протонами больших энергий облучали двухметровую водородную пузырьковую камеру. Обработав сто тысяч полученных фотографий, на одной из них ученые обнаружили эту частицу.

Долго разыскиваемая жительница микромира была торжественно «водворена» на место. Замкнулась десятка тяжелых частиц. Так подтвердилась правильность восьмеричного пути. Эксперимент выбрал наилучший вариант «гербария» фундаментальных частиц.
Значения найденного среди частиц порядка не умаляет и то обстоятельство, что пока неизвестно, какие глубокие законы природы лежат в ее основе. Ведь не знал же Д. Менделеев о соответствии порядкового номера элемента своей периодической таблицы заряду ядра.
Новый способ классификации частиц, за который М. Гелл-Манну была присуждена Нобелевская премия, — фундаментальнейшее открытие физики элементарных частиц.
Ну а как же кварки; значит, и они существуют?
Мудрецы никогда не разжевывают свой ответ, часто превращая его в новую загадку. И нужно быть не меньшим мудрецом, чтобы понять его смысл.
Открытие недостававшей в систематике частицы не решало кварковой загадки. Оно не отрицало их наличия, но и не подтверждало кварковую модель строения частиц.
Как понять этот ответ, напоминающий предсказания дельфийского оракула? Может быть, с помощью новых теоретических построений?
В одной из научных дискуссий по этой проблеме член-корреспондент АН СССР Л. Окунь дал четкий ответ: «Вопрос о том, существуют ли в природе новые стабильные частицы, в частности кварки, может быть решен только экспериментально, а не с помощью теоретических моделей».
Охота на кварки
Тяжело далось Туру Хейердалу получение одного из доказательств своей теории. Но М. Гелл-Манну не было дано и такой возможности. Для доказательства правильности теории кварков надо было обнаружить эти гипотетические частицы.
После сенсационного открытия омега-минус-гиперона акции кварков поднялись. Кварки сразу превратились в лакомый кусочек для экспериментаторов. Началась охота на кварки. Ажиотаж охватил многие лаборатории. Кварки искали в странах восточного и в странах западного полушарий. Их искали на синхрофазотроне Дубны, на ускорителе ЦЕРНа и в Серпухове. Их ищут на самом большом ускорителе мира в Батавии.
Но знали ли экспериментаторы, что искали, как «выглядят» эти кварки? И да, и нет. Твердо известно было только одно у них дробный электрический заряд. А вот относительно массы — полная неопределенность. По теории кварки могли быть втрое легче протона, но могли весить целую тонну!
Если бы кварки были легче протонов или хотя бы менее массивны, чем самая тяжелая из известных на сегодня частиц-резонансов, их бы давно обнаружили на ускорителях. Даже дробный заряд не помог бы им скрыться от опытного взгляда экспериментаторов. Просто их след в фотоэмульсии был бы тоньше и бледнее, чем у обычных частиц с такой же энергией.
Читать дальше