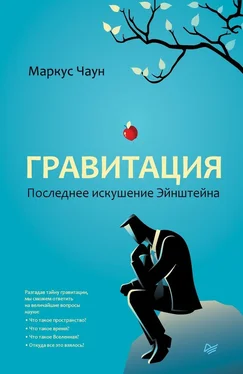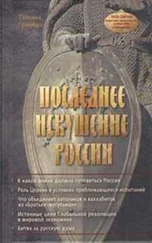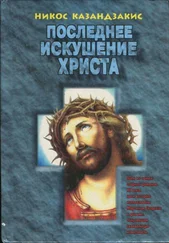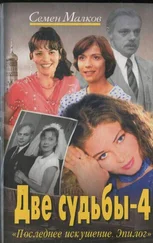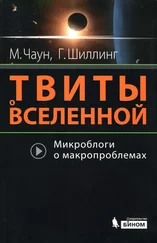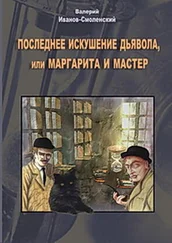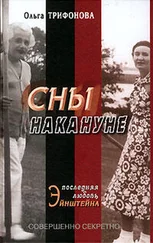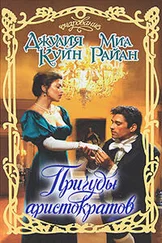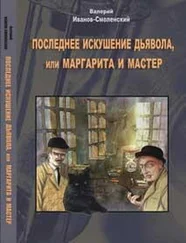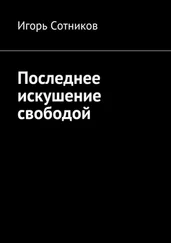Уильям Брэгг
[221] Bragg W. Electrons and Ether Waves (The Robert Boyle Lecture 1921) // Scientific Monthly. — 1922. — Vol. 14. — P. 158.
Ваша теория безумна, но настолько ли она безумна, чтобы быть верной?
Нильс Бор
[222] Эту фразу Нильс Бор сказал Вольфгангу Паули после презентации нелинейной теории поля элементарных частиц Гейзенбергом и Паули в Колумбийском университете в 1958 году. См.: Dyson F. Innovation in Physics // Scientific American. — September 1958. — Vol. 199. — No. 3. — P. 74.
Квантовая теория имела фантастический успех. Благодаря ей у нас есть лазеры, компьютеры и ядерные реакторы. Она объясняет, почему светит Солнце и почему почва под нашими ногами твёрдая. Но квантовая теория — это не только ключ к пониманию всего и рецепт для создания новых изобретений. Она приоткрывает для нас окно в безумный мир, Зазеркалье, скрытое прямо под покровом реальности. В этом мире атом может одновременно находиться в двух местах (представьте, что вы в одну и ту же секунду гуляете по Нью-Йорку и Лондону), событиям не нужны причины, а один атом может моментально воздействовать на другой, даже если тот находится в противоположном конце Вселенной.
Необходимость в создании квантовой теории вытекала ещё из теории электромагнетизма Максвелла, которая описывает все электрические и магнитные явления в виде единой стройной системы. При этом теория Максвелла содержит два парадокса, и оба они связаны со светом. Разрешение первого из них — как скорость света в вакууме может быть одинаковой вне зависимости от скорости движения наблюдателя — привело к созданию специальной теории относительности Эйнштейна, одному из важнейших событий в истории физики XX века. Разрешение второго тоже произвело революцию: благодаря ему возникла квантовая теория.
Второй парадокс возникает потому, что теория Максвелла допускает существование электромагнитных волн любого размера. Соответственно, помимо видимого света, длина волны которого составляет чуть менее тысячной доли миллиметра, во Вселенной имеются и волны большей (радиоволны, открытые Генрихом Герцем в 1888 году) и меньшей длины (рентгеновские волны, обнаруженные в 1895 году Вильгельмом Рентгеном). Размер волны связан с энергией, которую она переносит: медленные радиоволны имеют гораздо меньшую энергию, чем волны видимого света, а те, в свою очередь, менее энергичны, чем стремительные рентгеновские волны.
В горячем атомном газе световые волны постоянно испускаются и поглощаются. По прохождении достаточного количества времени в таком случае возникают все возможные виды световых волн. В подобном состоянии «теплового равновесия» энергия равномерно распределена между волнами любой длины. Здесь-то и возникает проблема. У длины волны существует верхний предел, который задаётся параметрами контейнера, содержащего газ. А вот нижнего предела у неё нет. Это значит, что, какую бы волну мы ни выбрали, количество волн длиннее неё будет конечным, а волн короче её — бесконечным.
Как уже говорилось выше, при тепловом равновесии энергия должна быть равномерно распределена между всеми волнами. Поскольку коротких волн оказывается существенно больше, чем длинных, бо́льшая часть энергии всегда будет приходиться на них. Соответственно, в конце концов вся энергия горячего газа перейдёт к самому энергичному излучению — рентгеновскому.
До открытия рентгеновских лучей в 1895 году излучением, обладавшим максимальной энергией, считалось ультрафиолетовое. Поэтому данный парадокс начали называть ультрафиолетовой катастрофой . [223] Гамма-лучи переносят ещё больше энергии, чем рентгеновские. Они были открыты французским физиком и химиком Полем Вилларом в 1900 году, а название им дал новозеландский физик Эрнест Резерфорд в 1903 году. Источником гамма-лучей являются ядра атомов, содержащие огромные объёмы энергии.
Нестыковка становится особенно очевидной, если проанализировать наше Солнце. Согласно максвелловской теории наша звезда должна постоянно выбрасывать в космос горячие и слепящие пучки рентгеновских лучей. Почему же она всё ещё светит?
«Каждый парадокс приносит пользу», — писал немецкий математик Готфрид Лейбниц. В 1900 году его земляк, физик Макс Планк, доказал его правоту.
В конце XIX века последним достижением в области электричества считалась лампочка, а главный технический и экономический вопрос звучал так: как максимизировать количество видимого света, выделяемого нитью накаливания внутри неё? Ответить на него было невозможно, ведь лучшая существовавшая на тот момент теория света предполагала, что такая нить, как и горячий газ в нашем Солнце, должна испускать весь свой свет в виде вспышек рентгеновских лучей.
Читать дальше