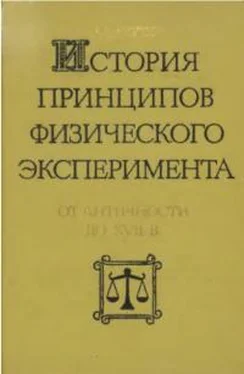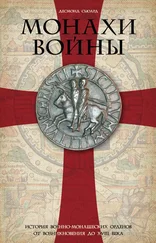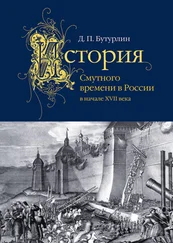Но, если природа и похожа на человека, врачующего самого себя, то, наоборот, человек оказывается природным существом, природой, способной действовать против самой себя. Далее, является ли для человека мыслящая способность естественной? Если да, то как может практическая деятельность, основанная на одной из функций этой способности, быть неестественной? Говорится, что в практике человек ставит себе цели, отличные от природных, но что является конечной целью строительства, плаванья, механических сооружений, как не тот же человек. Если causa finalis , «проявляющаяся в данном оливковом дереве, в данном псе, данном коне, в данном человеке, есть сохранение и раскрытие самой формы дерева, пса, коня, человека в данной материи» 25 , то разве человеческая практика не есть форма самосохранения человека как ее исходной причины и конечной цели?
Аристотель поэтому часто высказывается в том смысле, что различие между деятельностью человека и природы сказывается только в степени совершенства их произведений. «...Разумное основание,— говорит он,— одинаково и в произведениях искусства и в произведениях природы. Ведь руководствуясь мышлением или чувствами, и врач, и строитель дают себе отчет в основаниях и причинах, по которым один занят здоровьем, а другой постройкой дома, и почему следует поступать именно так. Но в произведениях природы «ради чего» и прекрасное проявляется еще в большей мере, чем в произведениях искусства» 26 . В природе трудно предположить иную форму процесса прежде всего потому, что отсутствует какое бы то ни было иное «разумное основание», кроме этого общего между природой и искусством. В. П. Зубов замечает, что даже свои биологические и медицинские (т. е. наиболее «естественные») объекты Аристотель рассматривает по аналогии с техникой, «исходя из понятия целесообразного строения организма, Аристотель не раз пытался раскрыть его деятельность на основе развернутых сопоставлений с функционированием произведений техники. Таково было, например, сравнение кровообращения с искусственной ирригацией садов» 21 .
Таким образом, в конструктивном отношении, в создании образцов понимания предмета, в разработке системы мысленного построения предмета анализ «причин и начал» искусства, техники, можно сказать, формирует всю познавательную способность. Важно также и другое. Основоначало, фундаментальный принцип технологии, всеобщая схема мастерства, если такая существует, становится схемой и принципом мыслительного искусства. Но в равной мере результат теоретической деятельности — теоретическое понятие — может быть интерпретировано предметно опять-таки на некоторой орудийно-практической схеме. На том уровне всеобщности, где мы имеем дело уже не просто с аналогиями и внешними заимствованиями, а где речь идет о содержательном единстве, единым предметом, представляющим собой как сущность природы, так и сущность техники, является движение. Поэтому именно в разработке понятия движения Аристотель ближе всего подошел к механическим понятиям. Справедливо было бы также сказать, хотя для античного самосознания это был нереальный шаг, что анализ всеобщих начал технической деятельности должен ближе всего подвести к понятию сущности физического движения.
В связи с этим нас интересуют все те моменты, в которых «естественное» движение в едином процессе переходит в «насильственное», и наоборот, т. е. моменты, позволяющие сопоставлять, соизмерять, сравнивать их и, следовательно, переводить определения одного в определения другого. Если найдется орудие, позволяющее производить такое сравнение, мы сможем сказать, что имеем дело с физико-механическим экспериментом. Ведь здесь мы сможем наблюдать в форме и движении определенного предмета тот скрытый процесс, результаты которого мы повсюду находим у Аристотеля, а именно преобразование определений практической деятельности в теоретические понятия, причем исследование становится в равной степени физическим.
Аристотель оставил четыре таких потенциально-экспериментальных проблемы. 1. Естественное движение тяжелого (земного) тела по направлению к своему естественному месту (земле). Однако это только половина задачи. Спрашивается, как тело попало на несвойственное ему место, ибо только при вмешательстве насильственного движения вверх место тела обнаруживает свою потенциально-двигательную способность, которая таким образом может быть изучена. Насильственное движение является здесь условием, мерой и, следовательно, инструментом исследования естественного. 2. Движение брошенного тела. «Составное» движение, заключающее в себе еще и проблему разных форм «насильственного» движения (в контакте с двигателем и без). 3. Проблема взаимодействия движущегося тела со средой (включающая в себя проблему пустоты). Противодействие среды необязательно понимается как именно противодействие (насильственное). Оно может входить в «естественное» движение (точнее неподвижность) предмета, если он находится на своем месте. Именно так формулируется «динамический закон» Аристотеля, который может быть истолкован из некоторого «принципа сохранения покоя» 28 . Эта проблема окажется важнейшей при определении чистого движения. 4. «Анизоциклическая» проблема, проблема движения концентрических кругов с разными диаметрами, заключающаяся в том, что при равной угловой скорости периферийные точки каждого из кругов обладают разными линейными скоростями, а это при общем «динамическом принципе» позволяет переводить геометрические соотношения в «двигательные» и обратно. Весы, теория которых может быть сведена к «анизоциклической» теории, есть инструмент, также позволяющий соизмерять «насильственную» и «естественную» силы, при помощи измеримых соотношений длин. Это именно та искомая форма, геометрическая структура, которая не заключает в себе ничего кроме определений потенций движения, причем бесконечно разнообразных в рамках данной местной структуры. Проблемы кинематики и динамики могли быть теоретически сформулированы только через эту исходную статическую конструкцию. Таким образом, эта проблема, названная нами последней, является в теоретическом отношении, «по понятию», первой. Она является первой также и исторически. Первые три — собственно кинематико-динамические проблемы — не могли быть решены в античной форме теоретизирования и выдвигаются на первый план в совершенно иной ситуации.
Читать дальше