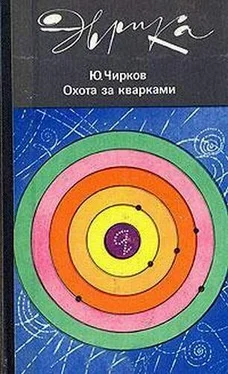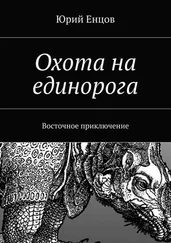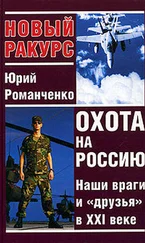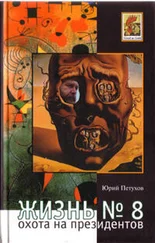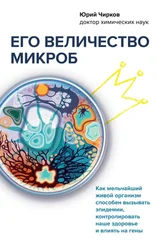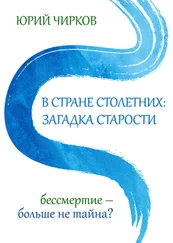Закончил свое выступление Ф. Жолио-Кюри скептическим замечанием: «Нельзя создать оригинальную работу на конвейере».
Увы! Можно протестовать, огорчаться, злиться, но времена ученых-одиночек в физике микромира прошли и, видимо, больше не вернутся. Чтобы убедиться в этом, чтобы почувствовать экспериментальную «кухню», надо побывать на ускорителе и присмотреться к работе тех (не только физиков!), кто трудится около него.
Можно было бы долго перечислять группы специалистов самых разных профессий и профилей; не будем этого делать. Ведь ясно, что на ускорителе, как и на огромном заводе, царит жесткое разделение труда. Сотни человек заняты непосредственной постановкой и обслуживанием эксперимента. Облучаемые потоками элементарных частиц камеры готовят десятки совсем других людей. Программы для ЭВМ составляет особая армия программистов. (Сейчас в числе соавторов многих работ физиков можно было бы смело поставить… ЭВМ. И физики шутят, что компьютерам осталось сделать последний шаг — научиться писать за них научные статьи.) Есть на ускорителе и особый отряд теоретиков (на синхрофазотроне в среднем каждый опыт-«сеанс» длится около двух недель, за это время исследователи получают десятки и даже сотни тысяч фотографий со «следами» процессов взаимодействия частиц). Теоретики заняты оперативной обработкой данных идущего эксперимента, интерпретацией полученных результатов.
Вот какое множество людей прямо или косвенно участвует в экспериментах на ускорителях. Что же тут удивляться, если после этого в физическом журнале появляется трехстраничная статья (физики обычно очень лаконичны) и в ней упомянуты не один, не два, а многие десятки авторов!
По этому поводу хочется вспомнить забавный случай.
В одном дружном физическом коллективе, занимающемся экспериментами с элементарными частицами на ускорителе, было решено располагать авторов в статьях на демократических началах — по алфавиту. Так и стали делать. И первым в списке всегда стоял некто — назовем его Баранов.
Такой порядок выдерживался несколько лет. А потом вдруг обнаружили: в советских и иностранных реферативных журналах, где очень уместна краткость, все статьи этой группы физиков значились под такой обидной для многих членов этого коллектива шапкой: «Баранов и др».
Что делать? Как выправлять крен? Долго размышляли и решили алфавитный принцип все же сохранить, но в каждой новой публикации передвигать цепочку авторов справа налево ровно на одну фамилию. Так, чтобы во второй статье первым ставить уже не Баранова, а Воронова; в третьей — не Воронова, а Говорухина и так далее.
«Кого ты больше любишь — маму или папу!»
Существует легенда, будто на вопрос о том, что бы он подумал, если бы эксперимент не подтвердил предсказанного им отклонения лучей света, автор общей теории относительности ответил: «Мадам, я подумал бы тогда, что бог упустил наиболее привлекательную возможность».
Ему приписывают и такие слова: «Разве недостаточно факта существования электрона, чтобы построить теорию?!»
Эти вроде бы несерьезные высказывания великого физика ставят серьезные вопросы. Ведь конечный итог развития любой науки не просто накопление фактов, а создание системы знаний.
«Ученый, — говорил А. Пуанкаре, — должен наводить порядок. Наука возводится при помощи фактов, как дом при помощи кирпичей; однако набор фактов является наукой в такой же мере, как груда кирпичей являет собой дом».
С этим заявлением нельзя не согласиться. Конечно, факты являются необходимой составной частью любой науки, но, будучи не взаимосвязаны, они имеют ограниченное значение. Прогресс в науке происходит только благодаря анализу информации, полученной из наблюдений, и формулировке соображений, которые устанавливают связь между фактами и позволяют оценить эту связь.
Теория — своего рода мозг физики, как, впрочем, и любой другой науки. Ее задача — кратко и ясно записать (сформулировать) то, что продиктовал эксперимент, и сделать это так, чтобы сразу стали видны все следствия, чтобы было понятно, каких деталей недостает, какие новые опыты необходимы. Но это еще не все, что требуется от теории.
«Истинная теория должна быть уязвим а, — считает советский физик, доктор физико-математических наук профессор Н. Мицкевич. — Ее достоинство не в том, что ее в последний момент можно подогнать под имеющиеся факты, а в том, что в ней, как в хорошем часовом механизме, все колесики на своих местах — стоит переставить хоть два из них, остановится вся сложная машина, и потребуется не просто ремесло, а подлинное искусство, чтобы отыскать причину поломки. И в этом, а не в бесконечном хлопотливом и неинтересном ремонте заключается действительный процесс познания, ибо каждая «поломка» — открытие качественно нового и глубоко содержательного закона природы, требующее его осмысления и приведения в соответствие со всем стройным комплексом наших знаний. Сам факт возможности такого построения и развития науки знаменует чтото совершенно особенное в природе, великую гармонию ее частей, целостность, при которой деление на части — условность, вызванная нашим собственным несовершенством…»
Читать дальше