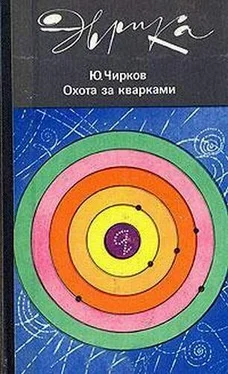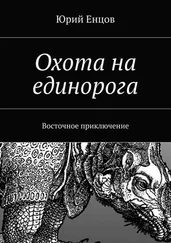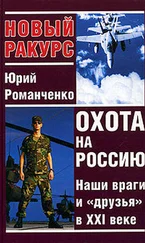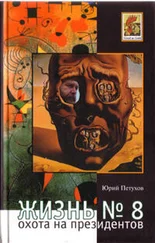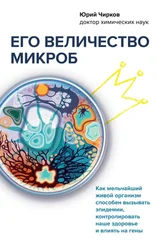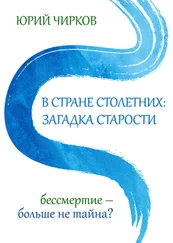Если частицы «разумны», они смогут сориентироваться: выберут Порядок. И это послужит нам сигналом…
Огромное — мало, малое — огромно
Настала пора сделать важные оговорки. Во-первых, фридмоны — это пока лишь гипотеза, лишь предвидение теоретика. Наука сейчас не может ответить окончательно, тождественны ли фридмоны каким-то уже известным частицам, например, электронам, или же это что-то совершенно новое: тип частиц, которые еще только предстоит открыть опытным путем.
Во-вторых, совершенно неясно, можно ли говорить о каком-то подобии нашего мира, нашей Вселенной и того «космоса», который, возможно, спрятан в микромире.
Еще Д. Менделеев предостерегал от упрощенчества взглядов. «Есть своя захватывающая прелесть, — писал великий химик, — что малейшее в природе так же построено, как величайшее, но отсюда далеко до уверенности в том, что это так и есть на самом деле».
В-третьих, для общей теории относительности, если она уже вторглась в микромир, нужны квантовомеханические обобщения, но они только начинают разрабатываться современной наукой.
Квантовая теория гравитации, которая могла бы точно описать сильные гравитационные поля в микроскопических областях пространства, еще не создана. Физики могут лишь очень приближенно «сшивать» решения уравнений Эйнштейна с квантовой теорией. И поневоле многое в расчетах, начало которым положил М. Марков, остается еще неясным. И эти расчеты еще далеко не доведены до конца. (Кстати, кроме М. Маркова, подобными вопросами занимались и другие исследователи: известный теоретик С. Хокинг из Англии, советский профессор К. Станюкович — он предпочитает слову «фридмоны» слово «планкеоны», это название дано им в честь М. Планка, тем самым подчеркивается квантовая природа этих объектов, — занимаются подобными проблемами и другие исследователи.)
Квантовая гравитация обещает много чудес. Оценки (пока, увы, довольно грубые) показывают, что «горловина» фридмона — ее радиус чрезвычайно мал имеет размеры всего 10 -33сантиметра.
Предсказывает теория и очень сложную структуру материи, окружающей фридмон. Вокруг «голого» фридмона нарастают слои («шуба») из виртуальных спонтанно рождающихся и быстро исчезающих — частиц. Эти фантомы должны, в свою очередь, иметь слоистую структуру.
На дальней периферии (ближе к людям!) — это полупрозрачные, рыхлые мезонные «облака». А в областях, расположенных ближе к фридмону, находится более плотный «керн», слои из более тяжелых виртуальных частиц. И внутри всего этого «многоэтажия» прослоек (мы очень грубо, приближенно охарактеризовали его) глубоко и надежно запрятан фридмон. И он, быть может, и является как бы затравочным ядром для образования являющихся нам в опыте элементарных частиц. Но в этом ядре-фридмоне открывается… Вселенная!
Много еще научных вопросов предстоит решить.
Но как бы там ни было, концепция фридмонов очень обогатила современную науку.
А какой переворот в мировоззренческих, философских взглядах несет учение о фридмонах! Вспомним о матрешках. Размышляя о бесконечности материального мира, о структуре этой бесконечности, мы скорее всего слишком прямолинейны.
Бесконечную череду размеров (матрешка в матрешке) мы представляем себе чем-то вроде прямой, уходящей в область исчезающе малых (микромир) размеров, с одной стороны, и в область неограниченно больших масштабов, (мегамир, сами мы обретаем в макромире) — с другой.
Но, быть может, стремясь в космические дали, мы на самом деле лишь спускаемся в глубины микромира?
По Маркову, оказывается, бесконечность мира скорее похожа на круг, где сколь угодно малые величины «замыкаются» на бескрайне большие и соотношение ультрабольшого и микроскопически малого приобретает относительный смысл. Понятия переходят в свои противоположности. И бесконечное! ь мира похожа не на прямую с уходящими вверх и вниз стрелами, а на круг, где сколь угодно малые величины «замыкаются» на бесконечно большие.
* * *
…Холодное звездное небо над головой. Головокружительные дали, пытливо вглядываясь в которые человек узнает все новые научные откровения…
И главный, пожалуй, урок, преподанный фридмонами:
действительность может порой оказаться фантастичнее наших самых архибезумных фантазий.
Вместо того чтобы враждовать между собой из-за благосклонности публики, ученым больше подобало бы думать о себе как о членах экспедиции, посланной для обследования незнакомого, но цивилизованного общества, чьи законы и обычаи лишь смутно понятны.
Читать дальше