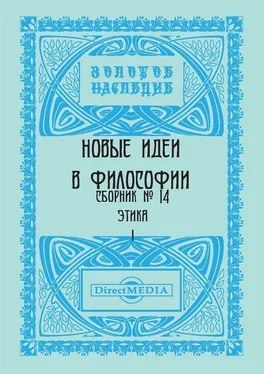Этический догматизм преодолен, если не фактически, то логически, антиэтическим индивидуализмом. Самой существенный и сходный пункт первого, а именно, природа и жизнь, ведет ко второму. Догматизм был последователен в своем «уравнивании», но он сделал свои «выводы» из ложных предпосылок: из ложно-интерпретированной действительности и ложно интерпретированной жизни. Его неправильная интерпретация, а с тем вместе и ложные предпосылки были вскрыты индивидуализмом, и догматизм был преодолен. В индивидуализме последовательно продуман до конца всякий логически-определенный догматизм, но это именно значит, что он, как этика, преодолен. Но, как мы заметили уже выше, полемика его вовсе не коснулась критической этики, потому что с ней и не было никаких точек соприкосновения. Так и в настоящее время, после «переоценки всех ценностей», краеугольные камни критической этики остаются столь же непоколебленными, какими они были при самом заложении их, т. е. приблизительно за сто лет до всякой переоценки, если вообще ставить существование их в какую-нибудь зависимость от этой переоценки и ее антиэтической тенденции.
Индивидуализм искал основу свою только в природе и только самое природу хотел считать нормой. Если же она, в конце концов, требовала обуздания инстинктов, то она не могла подвести под это требование надежную основу, потому что идеал «возвращения к природе» все же базировался всегда на природе, а, следовательно, и на самом «инстинкте» и «смелости инстинктов»: воля, как голая природа, не может обуздать столь же естественный инстинкт, с точки зрения чистой природы они друг от друга неотделимы, вследствие чего постоянно создавался порочный круг.
Итак, критическая этика ничего не может ожидать от аморального индивидуализма и нечего ей опасаться его. Все же она должна обосновать для себя собственный свой принцип и самой защитить свои основы. Так как, далее, она все же желает быть этикой и, как таковая, выставить общеобязательные линии человеческого поведения, то, хотя полемика антиэтического индивидуализма ее и не коснулась и не поколебала, она все же со своей стороны должна подвергнуть его критике и поколебать его основы.
Слабость же индивидуализма заключается, как было мимоходом замечено уже выше, в его натурализме. Подобно догматизму, он надеялся вычитать из природы нормативное. Он только интерпретировал природу правильнее, чем догматизм. Правильной предпосылкой его аргументации было, что в чисто естественной жизни властвует абсолютно-индивидуальное всего действительного, как и победа сильного над слабым. Поэтому он в сравнении с всеуравнивающим догматизмом был совершенно прав своей интерпретацией природы. Отсюда далеко еще не следует, что вся его точка зрения правильна абсолютно и в сравнении со всякой этикой. Индивидуализм показал только, что на догматически-биологической основе никакая этика невозможна, но он не показал, чтоб невозможна была никакая вообще этика. Напротив, выводы из антиэтического идеала опровергают его самого, как он опроверг, как этику, догматизм, сделав правильные выводы из правильно выставленных предпосылок.
Пусть природа на самом деле показывает нам господство силы: что же, это – факт природы. Познать этот факт, значит, дать правильную «интерпретацию» природы, в противоположность ложному истолкованию догматиков. Но откуда эта интерпретация получает право выступать как ценность? Индивидуализм не может дать на это никакого ответа. Он ценит силу ради нее самой и, поскольку он это делает, он сам есть догматизм. Принимать факт за ценность только ради одной его фактичности есть проявление догматического мышления, которое только тем и отличается от настоящего этического догматизма, что этот последний делает основой своих оценок ложное истолкование голого факта, а оно исходит из своей оценки, из правильного истолкования этого факта 29. Проследим выводы, вытекающие из такой оценки силы ради нее самой, и мы убедимся, что такая оценка не может не привести к собственному своему опровержению.
Природа, как таковая, не только стоит по ту сторону добра и зла, но и вообще по ту сторону ценности и не-ценности. Последовательный естествоиспытатель, как естествоиспытатель, и не знает поэтому никакого отношения к каким-либо ценностям. Понятие «вырождения», в противоположность «естественному» и «закономеренному», само не есть уже поэтому понятие, адекватное чисто естественно-научному методу, а сюда включается нечто большее, чем естественный факт, именно, суждение о природе, оценка природы. Но всякая оценка выходит уже за пределы того предмета, который оценивается и, следовательно, выходит за пределы естественного факта, указывая на стоящую над природой норму, согласно которой оценка производится. Поэтому самый факт никогда не может служить основанием для оценки, никогда не может быть возвышен до значения нормы. К этой идее implicite апеллировал уже, сам того не замечая и не желая, сам «аморальный» индивидуализм. Но он этого не признает и именно в этом его камень преткновения. Естественное он хочет сделать нормативным, и оно не нуждается, по его мнению, в другой, над ним стоящей норме. Но естественно необходимо «вырождение» в такой же мере, как и «природное». Поэтому, если бы не было никакой нормы, стоящей над естественным, нормы, от которой естественное заимствует лишь свою ценность, если бы оно носило свою ценность уже в самом себе, как таковое, то и «вырождение» и «природное» были бы равноценны. Но единственно последовательной точкой зрения была бы тогда та, которая вообще отрицала бы точку зрения ценности, ибо там, где все равноценно, все может быть в такой же мере и не ценно. Такая точка зрения вполне приличествует естествознанию как таковому, и оно ее и развило довольно последовательно 30.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу