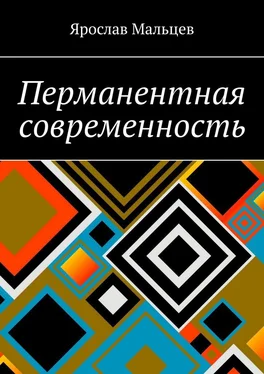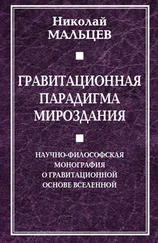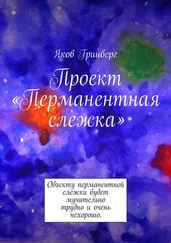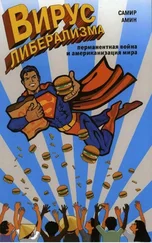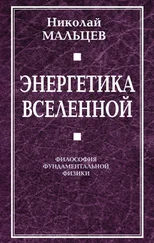Вместе с тем, нужно отметить, что восприятие темпоральности в период современности вместе с его устремленностью в будущее меняется и еще в одном аспекте: время становится более «техническим». Время превращается в хронометраж, в нечто измеряемое и нечто, с помощью чего измеряют. Оно становится частью производства. Им начинают измерять часы работы и часы досуга [155. – C. 67]. Как несколько поэтически выскажется С. В. Борисов: в период модерна «жизнь покинула время, исчезла его качественная составляющая, время превратилось в простое исчисляемое количество» [20. – C. 123]. Исчезает субъективное восприятие времени, когда оно может пониматься, исходя из сиюминутных ощущений и переживаний человека: как счастливое время, время урожая, мрачное время. Время механизируется, иссушивается до секунд и миллисекунд. Время превращается в инструмент бюрократии [155. – C. 67], в инструмент власти.
С. В. Борисов в этой связи отмечает, что время модерна распадается «на две фактически изолированные области: объективное и субъективное» [20. – C. 123]. К объективному времени здесь относится то, которое измеряется посредством хронометров, в то время как субъективное время, это время переживаемое субъектом на уровне чувств, эмоционально окрашенное («время любви», «пора молодости»). И если время хронометрическое является свойством модерна (именно модерна), его характеристикой, то время субъективное окажется временем непосредственно переживаемой «текучей» современности, как она будет пониматься в данной работе.
2. Подобная концепция времени оказывается в основе такой сущностной черты современности, как самообоснование . Оно обусловлено указанным в предыдущем абзаце свойственным современности разрывом между новым временем и предшествующей исторической эпохой, детерминированным нежеланием современности «формировать свои ориентиры и критерии по образцу какой-либо другой эпохи», и выражается в противоположном стремлении черпать свою нормативность из самой себя, из своей собственной актуальности. Как отмечает Лиотар: «Сама идея современности тесно соотнесена с принципом, согласно которому возможно и необходимо рвать с традицией и учреждать некий абсолютно новый способ жизни и мышления» [74. – C. 106]. В результате, современность видит себя однозначно самоотнесенной. В свое основание современность вынуждена закладывать только постоянно пересматриваемые результаты практической деятельности, помогающей людям сосуществовать друг с другом [143. – C. 12—13].
Разрыв опыта проходит не только на уровне поколений, но и на уровне отношений человека с трансцендентным. Современности оказывается враждебным всякое представление о трансцендентном. В ней широко распространяется процесс секуляризации (неслучайно контрсовременные, фундаменталистские течения сплачиваются именно на основе религии), распространяющийся посредством утверждения интеллектуальными элитами и образовательными институтами (а часто и закрепленным в Конституциях государств принципом светскости).
3. Тесно связанной с самообоснованием оказывается присущая современности саморефлексия . Современность предполагает, что никаких предзаданных, предпосланных, изначальных норм и ценностей не существует. Она исходит из того факта, что картина мира есть человеческий конструкт, который может быть пересмотрен в тех случаях, когда его рамки начинают мешать людям быть вместе, угрожая распадом общества. Так классический рыночный либерализм А. Смита оказался ревизован социалистической теорией, которая привела европейской общество от жесткой эксплуатации рабочего через рабочее законодательство к государству всеобщего благосостояния [89. – T. 3. C. 587].
Происходит невиданный ранее рост числа нововведений, обесценивающий опыт старшего поколения, который оказывается бесполезным для молодежи. Молодые люди оказываются вынужденными самостоятельно выбирать из множества вариантов, увеличивая время на саморефлексию и вынужденно обретая ответственность за себя.
4.Обоснованная изнутри самой себя и не нуждающаяся в трансцендентном современность приобретает характер некоего всеобъемлющего жизненного проекта , намечающего перспективу разумной организации человеческой практики: «Проект модерна, сформулированный философами Просвещения в XVIII веке, состоит в том, чтобы последовательно развивать объективирующие науки, универсалистские основы морали и права и автономную сферу искусства во всем их своеобразии, – но в то же самое время высвобождать накапливающиеся подобным образом когнитивные потенциалы от их эзотерических „возвышенных“ форм и использовать для практики, т. е. для разумного устроения жизненных связей» [143. – C. 17—18]. Такое понимание модернити приводит к тому, что «не ограничиваясь сферой философских идей „современность“ как проект находит свое реальное воплощение в процессах общественной и культурной модернизации» [140. – C. 47].
Читать дальше