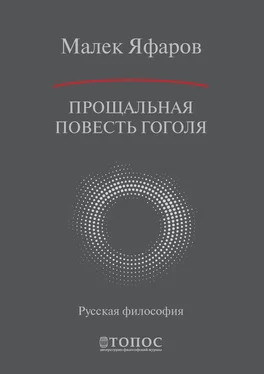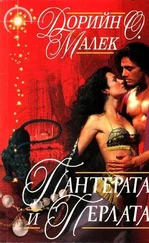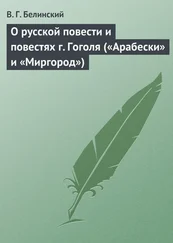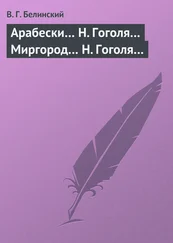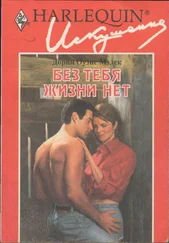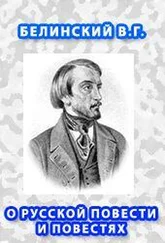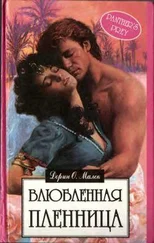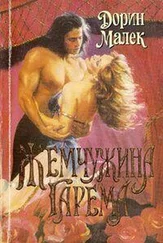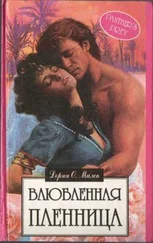Прощальная повесть – не литература, а если и литература, то только в смысле литература жизни, а не жизнь литературы, это повесть самой жизни Гоголя, поэтому полагать литературу самым важным делом для него, как это делает абсолютное большинство наших критиков, значит самого существенного в этой жизни не видеть. Так Игорь Золотусский внушает нам, что «судьба его – быть прихлопнутым обложкой недописанной книги». Какое презрение и слепота «главного» биографа Гоголя!
С момента «венского видения» жизнь Н. В. неминуемо наполняется переживанием и подготовкой к предстоящему служению, подвигу, в котором литература занимает довольно отдалённое место; предыдущие исследователи правы в том, что «Прощальная повесть» относится к «Избранным местам из переписки с друзьями», но только в этом, очень ограниченном смысле, не более того. Насколько объемна, тотальна, как говорят сейчас, предстоящая великому человеку задача, настолько он стремится расширить свой и других кругозор во взгляде на жизнь в целом.
«Избранные места…», как и вообще все свои литературные, драматические, публицистические, научные и эпистолярные произведения Гоголь рассматривает лишь как часть, элемент более всеохватывающего служения людям. И действительно, культурная задача восстановления торжества и величия феномена смерти, восстановление разорванного континуума русской культуры, в котором смерть превратилась в чудовище, которое преследует человека, гораздо более для всех значительна, существенна и грандиозна, чем любая литература, театр или публицистика.
Мы не знаем, было ли четвёртое и последнее видение, которое определило окончательный срок «Прощальной повести», но, скорее всего, оно было, косвенным свидетельством этого служит изменение решения Н. В. ехать на свадьбу сестры, посещение им Оптиной пустыни и отмеченные многими перемены в его поведении. Сейчас мы всего не знаем, но и этого вполне достаточно; Гоголь оставил нам всё, что нужно. Привести в исполнение задуманное и то, что готовил десятилетия, он должен был обязательно на людях, хотя, конечно, ему намного легче было бы сделать это в уединенном месте, но, как и Остапу Бульбе, ему пришлось смотреть на смерть живым на людях, в обществе, так, чтобы его намерение было засвидетельствовано, пусть даже неосознанно, без понимания (или даже с пониманием того, что он – сумасшедший).
Конечно, «Прощальная повесть» – не демонстрация намеренной смерти, ни в коем случае, принародность была её условием, но не содержанием; люди должны были видеть, зафиксировать, пусть не понимая, то, что потом, в будущем, на которое только и надеялся Н. В., станет людям понятно. Содержанием этого великого действа было удерживание живого, полного любви внимания на смерти во всей её полноте, величии и ужасе! Гоголь знал и предвидел всю степень страха, который предстоит ему испытать, так как ему придётся иметь дело со всеми теми чудовищами, семена которых он посеял в течение своей жизни и которые, тысячекратно усиленные, предстанут и будут терзать его как его собственные порождения. По сравнению с этим ужасом предстояния порождённым им самим монстрам, то, что его мучили непонимающие его люди (и друзья, и доктора), пытавшиеся насильно его лечить, было гораздо терпимее для него, имеющего очень большой жизненный опыт непонимания себя окружающими. В качестве некоторого своего утешения Н. В. Гоголь в последнем варианте «Тараса Бульбы» описал, что смерть Остапа, которого мучают и пытают враги, видел его отец – Тарас Бульба; сам он такого утешения не получил: ни отца, ни твердого понимающего его человека рядом с ним не было. Соотечественники и друзья, «Прощальная повесть» Гоголя живёт в нашей русской культуре, живёт в нас, не как литература, а как тот жизненный опыт, который мы ещё в себе не знаем, но который сегодня начинает приоткрываться нам во всей своей красоте, ужасе, величии и простоте.
Произведения Н. В. Гоголя
1. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832)
Переживание и восприятие жизни как торжества, великолепия, упоения, сладострастия – это прямое наследие древней цивилизации, проявленное в русском человеке совершенно невольно, естественно, само собой, по привычке. Это матричное состояние стало субстратом ранних лет Н. В. Гоголя и задало поэтику его мировосприятия; оно же стало основой написания «Вечеров».
«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблок, груш; его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах… как полно сладострастия и неги малороссийское лето!»
Читать дальше