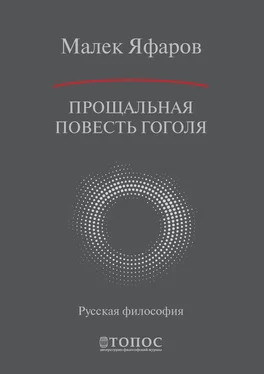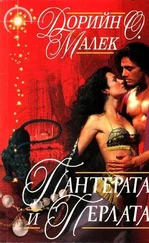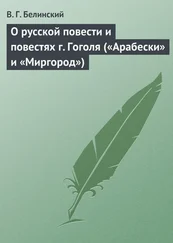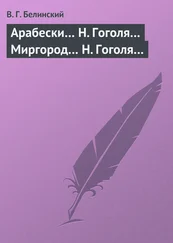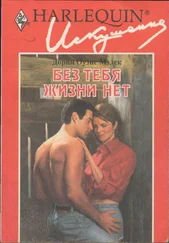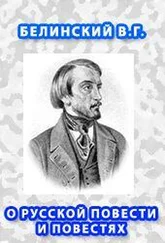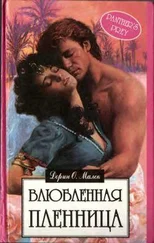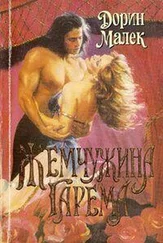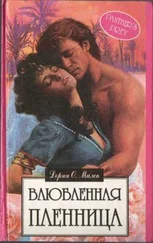– служение личное, именно и только данного человека; своим служением Гоголь воспринимал то, на что призвала его жизнь: возвращение феномену смерти его подлинного места, для чего требовалось видеть её живую, постоянно в течении всей жизни удерживать во внимании красоту, торжество и величие смерти, чтобы в какой-то момент быть готовым к тому, чтобы увидеть, воспринять, пережить её во всей её полноте и совершенстве, «заживо предстоять вечности», как говорил Н. В. Без понимания этого Гоголь превращается в странного, загадочного, фантастичного человека, а его произведения – только в смех над пошлым, пасквиль, карикатуру и фантасмагорию.
Таким видением смерти Гоголь служит своему народу, потому что мы, русские, отчаянно нуждаемся в возвращении торжества и величия смерти. Страх своей смерти, восприятие смерти как тьмы, как врага живущего и чудовища заставляет каждого русского человека не только просто бояться смерти, но и слишком цепляться за свою жизнь, и это приводит к тому, что люди начинают невольно творить зло. Восстановление утраченного древнего единства жизни и смерти, исчезновение страха смерти и вызываемого этим страхом зла – вот что полагает своим служением Гоголь, полагает не сам, не внешним внушением, а всем единством, всей целостностью своей жизни.
Как только мы открываем то, в чём заключается для Н. В. его служение, вся жизнь Гоголя – его скитания, отказ от имущества и собственности, литература, письма, театр, и, наконец, «прощальная повесть», приобретают глубокий, последовательный, понятный и сопереживаемый смысл. Более того, мы до сих пор, а прошло уже почти два века, не только не начали ту культурную работу, которую начал Гоголь, но даже не знаем и пока ещё не хотим знать того, что она нам предстоит. Если, конечно, мы собираемся жить полной культурной жизнью, которая невозможна без – намеренного, продуманного, осознанного отношения к смерти. Без культуры смерти.
Н. В. Гоголь показал нам, что смерть каждого человека – это «общее дело» всех, что мы, русские, не должны оставлять человека одного в его предстоянии смерти, в страхе, мы должны начать новый культурный опыт – «живого предстояния вечности», живого опыта предстояния смерти. Пока мы не развернёмся в эту сторону, над нами будет довлеть ужас смерти и неизбежно сопутствующий ему приоритет отдельности своей жизни, а это пагубно и для русской культуры, и для русского человека в онтологическом смысле.
В нашем литературоведении Н. В. Гоголя принято наделять неким стандартным набором качеств «настоящего художника»: ранней серьёзностью и взрослостью, мнительностью, скрытностью, фантасмагоричностью, экзальтацией (особенно религиозной), противоречивостью. Здесь помогло бы удержаться в рамках достоверности внимание к тому, что этот человек сумел заставить народ веселиться и смеяться, и даже император, критики и наборщики в типографии не избежали тёплого обаяния его «Вечеров…» Такая радость никак не могла быть порождением сумеречного духа. Недоумение у гоголеведов не возникает потому, что для них именно такой – странный, скрытный, неврастеничный человек и есть образ настоящего художника, гения.
Партийное и особенно советское литературоведение должно быть весьма благодарно разработанному Белинским представлению о том, что творчество и человек отделены друг от друга и потому в критике стало возможным так интерпретировать жизнь писателя, чтобы рассматривать его творчество отдельно от него самого, игнорируя черты, которые не вписываются в «нужную» тенденцию. Отделив человека от того, что он делает, совкритика закрыла себе понимание таких важных вещей, как уникальность веры Гоголя. Когда не отделяешь его человеческую жизнь от того, что он делал и писал, то как раз и видишь совершенно нормальное, последовательное возрастание, взросление человека в той вере, в какой он родился и воспитывался. Пережитые смерти брата и отца ускорили и углубили его развитие в вере, а сопровождавшие эти события видения – осложнили.
Для меня очевидно, что процесс действительного воцерковления, насыщения, сначала по необходимости, ритуальных действий соответствующим содержанием проходил у ребёнка обычным образом, как у всех, кто рос в православном мире, в православной семье. Поэтому в отношении Н. В. Гоголя к вере не было никаких странностей и непонятностей: он с детства был православным, насколько сначала ребёнок, а потом юноша, а потом молодой человек и, наконец, взрослый, зрелый человек может быть православным; в его духовном развитии нет сбоев, нет каких-то специальных особенностей естественного накопления опыта верующим человеком.
Читать дальше