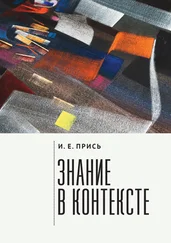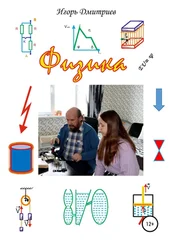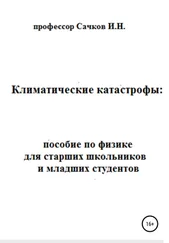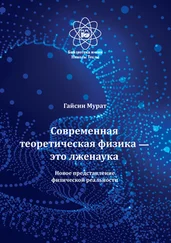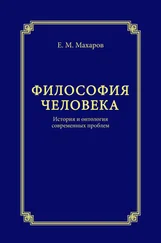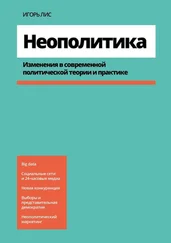Мы будем также говорить о реальности контекста, или о контексте как самой реальности. Контекст подразумевается; он не может быть определён. В противном случае это был бы не контекст, а определённый объект. В рамках контекстуального реализма все реальные объекты укоренены в контексте – реальности. Благодаря этому, в зависимости от контекста, они могут варьировать свою идентичность. Как утверждает Бенуа, контекстуальность – фундаментальное эпистемологическое и онтологическое свойство реальности [87, ch. 1]. То, что не обладает этим свойством, не реально.
Понятие контекста хорошо известно из аналитической философии языка. Например, индексикальные выражения истинны или ложны не сами по себе, а в контексте. Мы будем, однако, оперировать более общим и менее определённым понятием контекста, содержание которого раскрывается лишь в рамках философской позиции, которую мы называем контекстуальным реализмом.
Вкратце, контекст есть там, где имеет смысл говорить об истинных или ложных высказываниях (корректных или некорректных действиях), но не о предопределённости их истинности или ложности (корректности или некорректности) : в этом смысле контекст – это определённость без предопределённости. Высказывания, суждения и действия первичны. Они – употребления концептов в контексте. Понятие контекста, таким образом, возникает там, где возникают концепты, нормы, язык и их применения. Как пишет Бенуа, «что касается понятия контекста, то «контекст возникает лишь там, где начинается эта нормативная игра в реальности, которую в том или ином смысле называют «мыслью». Сам контекст, однако, (…) остаётся безмолвным» [75, p. 88]. Контекстуальное и концептуальное (или нормативное) идут рука об руку. Нельзя понять одно, не поняв другое. Парадигматические случаи употребления языка (концептов, норм) – деконтекстуализированные, тогда как новые случаи – по определению контекстуальные: контекст – это всегда новизна. Витгенштейновские языковые игры контекстуальны, что также означает, что они не автономны, а укоренены в реальности.
Поскольку контекст – это непредопределённость, новизна, он есть там, где есть обоснование постфактум : контекст не иррационален, он предполагает рациональность. Контекст есть там, где фрагмент реальности, реальный объект может менять свою идентичность, превращаться в другой реальный объект.
Итак, как уже было сказано, образно говоря, контекст есть там, где есть укоренённость в реальности, интимная связь с ней. Он есть там, где смысл, нормы (правила), концепты питаются самой реальностью, которая играет роль почвы для них. Поэтому можно также сказать, что контекст есть сама реальность. Только в контексте можно говорить о полнокровном смысле, концептах, нормах, которые противостоят псевдосмыслу, псевдоконцептам и псевдонормам. Контекст есть там, где удовлетворяется введённое выше условие адекватности (условие подходящести можно отнести к более широкому контексту). Он есть там, где есть реальное бытие, реальный объект.
Выше мы ввели понятие «Ощущаемое», ссылаясь на обыденный перцептивный опыт. Речь может идти о перцептивном опыте, приобретаемом посредством любого из шести органов чувств или их комбинаций. Визуальная перцепция играет, однако, особую роль. Классическое понятие объекта было сформировано именно на базе визуальной перцепции.
Можно, однако, расширить понятие неинтенционального перцептивного опыта – ощущаемого – на другие и удалённые от обыденной жизни области реальности, так что можно также говорить об ощущаемом в физике (например, можно «ощущать» фрагмент субатомной реальности или фрагмент космологической реальности), математике, социальной сфере и так далее. (В качестве альтернативы можно вообще отказаться от понятия ощущаемого в областях, удалённых от обыденного опыта. То есть можно говорить о социальной реальности, математической реальности, реальности кварков и чёрных дыр и так далее как о реальностях, которые не ощущаются.) О реальном объекте мы будем говорить как об объекте ощущаемом, то есть объекте, укоренённым в соответствующей области реальности, «форме жизни».
Эпистемология модерна сталкивается с «проблемой доступа» субъекта (мысли, концептов, языка) к реальности, которая на самом деле псевдопроблема. Контекстуальный реализм обращает внимание на то, что мы сами являемся частью обыденной, физической, социальной и других видов реальности. Как таковые они не концептуализированы. Мы способны получить тот или иной осознанный «доступ» к ним лишь в том случае, если мы уже выработали соответствующие концепты и овладели ими, то есть способны корректно их применять. То есть субъективность – это нормативное «движение» в самой реальности. Философия модерна вводит дуализм субъекта и объекта с самого начала и, как следствие, не может его преодолеть. У нас дуализм с самого начала отсутствует. В Части II это позволит, например, нам устранить проблему наблюдателя и неразрывно связанную с ней проблему измерения в квантовой механике. Проблемы интерпретации, с которыми сталкивается современная физика, обусловлены неверными предпосылками философии модерна (постмодернизм есть лишь крайнее проявление модернизма).
Читать дальше
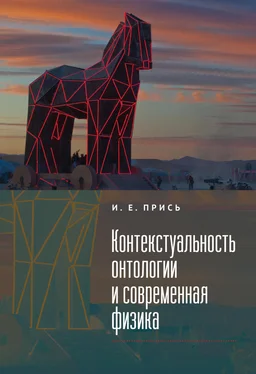
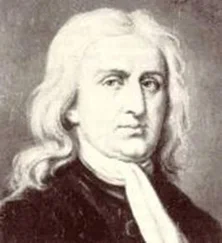

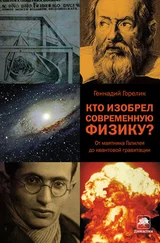


![Игорь Дубов - Современная советская фантастика [Сборник]](/books/412259/igor-dubov-sovremennaya-sovetskaya-fantastika-sbor-thumb.webp)