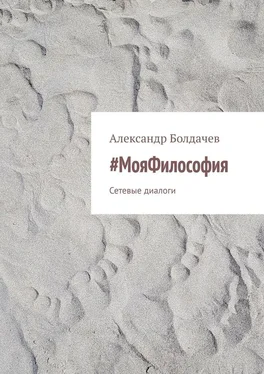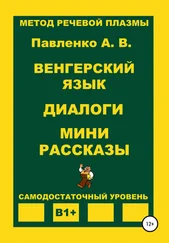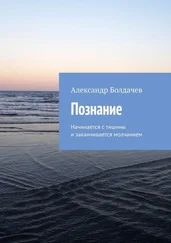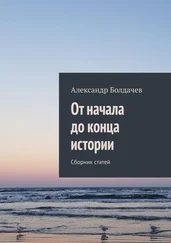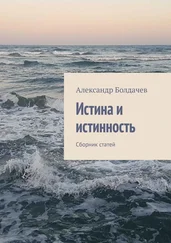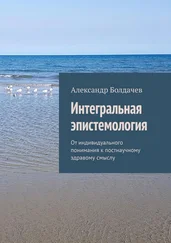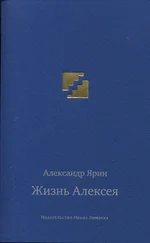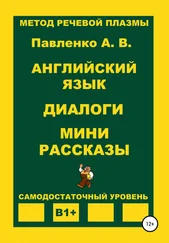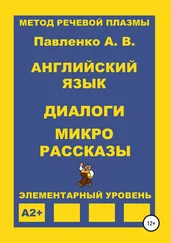Если мышление на уровне элементарной математики и химии в принципе может пригодиться всем (да и то в очень малом объеме), то философское мышление уж точно не востребовано. Введение философии в качестве обязательного предмета приведет лишь к очередной профанации – навсегда отобьет всякий интерес к этому предмету.
Ну и самое главное – нет никакого особого способа мышления, которому можно было бы учить. Мы имеем лишь слепки с мышлений философов в виде их текстов, порой столь же путанных, какими, наверное, были и их мысли.
Учитывая все сказанное, можно даже задуматься, а не убрать ли философские факультеты из университетов? Они же не философов готовят. Ну, если только одного на сотню-тысячу. Хотя, наверное, ради этих единиц игра стоит свеч.
Любая область деятельности замкнута сама на себя, осмысленна только в собственных терминах, и, безусловно, выглядит тавтологично извне. Человек, понимающий это, не будет на каждом углу трубить о том, что, если в его терминах невозможно сформулировать содержание другой области, то этой области не существует либо она исходно ущербна. Таким образом он лишь демонстрирует свою ограниченность. И что еще прискорбнее – непонимание этой ограниченности.
Если найдутся хотя бы два человека, видящих смысл в неком объекте, значит, существуют и этот объект, и этот смысл. Ваше же утверждение, что вы в упор не видите этого объекта или не видите этого смысла, не значит ничего большего, чем «я не вижу», то есть ничего не сообщает о самом объекте, а говорит лишь о специфике вашего зрения, отличающегося от зрения первых двоих.
Или проще: видимая тавтологичность суждения свидетельствует не о бессодержательности этого суждения, а лишь о неразличении воспринимающим смысла входящих в суждение терминов. Так вы намедни, увидев в одном предложении слова «субъект» и «сознание», вполне резонно отметили его (предложения) тавтологичность. Но в моей терминологии, в моей системе эти два слова не синонимы, и предложение наполнено смыслом, который для вас просто недоступен по причине неразличения вами двух разных понятий.
Так и с философией: допустите, что ее смысл лежит за пределами разрешения вашего понимательного прибора, для вас этого смысла нет. Но это не значит, что нет самого объекта и тех людей, которые различают в нем разнообразные смыслы. Ведь это так просто. Я, например, не имея безупречного музыкального слуха, не услышу разницу в четверть тона, а значит, некоторые моменты четвертитоновой музыки для меня недоступны. Но не делать же мне на этом основании вывод, что такой музыки нет.
«Критерий Истины есть практика». Ну да, где-то так. Где-то, но не в философии. Какая там практика? А ведь, казалось бы, именно философские истины должны претендовать на статус Истины. Не о физической же формуле идет речь, не об изобретении – таковые действительно подпадают под критерий практики, но сомнительны в роли «Истины», они лишь правильные, удачные, удобные решения.
А если для вас истина «конкретный предмет» – носите ее в кармане, доставайте, показывайте: вот, мол, смотрите, а у меня «истина». Все восхищаться будут. Только берегите ее, а то украдут. Хотя кому она такая нужна – в кармане, в виде предмета…
Или вы считаете, что истину можно найти в учебнике – в виде предложения, определения, закона? Или в учебниках истины нет? Есть? Там одни только истины сплошные? Не только? А если там не только «истины», то как отличить их от «неистин»?
Хотя я спокоен, когда на земле есть человек, для которого истина «предмет».
Возможно ли утверждать, что некоторое высказывание будет ближе к Истинной природе рассматриваемого явления?
А что это такое? Где она, «истинная природа»? Это некоторое безусловно истинное высказывание о явлении? Я думаю, тут просто надо отсылать себя к Канту. Явление – это всегда и только то, что нам дано в конкретной деятельности, оно в большей степени характеризует не объект, а саму деятельность. Мы не имеем права говорить об элементарной частице как таковой: физика, по большому счету лишь оперирует показаниями наших (нами изготовленных) приборов. Будут другие приборы – будут другие «явления». Представление об объективном существовании предмета познания, о наличии у него чего-то независимого от нашей познавательной активности давно уже в прошлом – и в философии после Канта, и в физике после квантовой теории.
Читать дальше