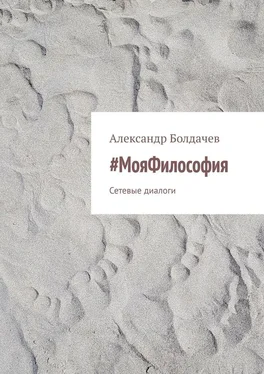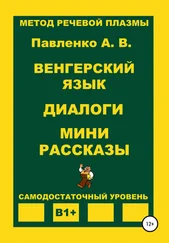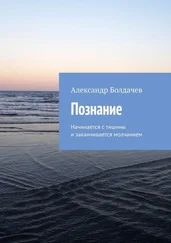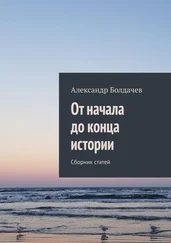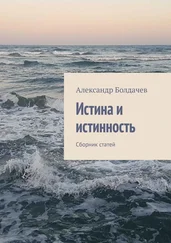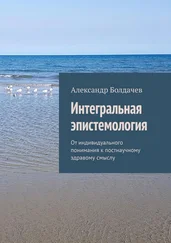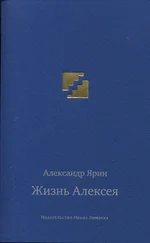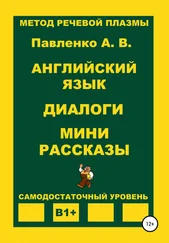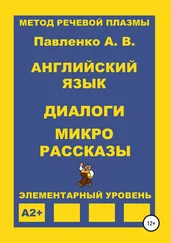И тут есть два подхода к различению философии от других сфер творческой/познавательной деятельности: либо по внутренним качествам (мировоззрению) человека, занимающегося тем или иным творчеством, либо по внешним формальным признакам продуктов творчества. Вы стали отталкиваться от первого. Но, на мой взгляд, это тупиковый путь. Ведь для того, чтобы определить, что такое «философское мировоззрение», то есть чем оно отличается от других (нефилософских) мировоззрений, надо уже знать, что такое «философия». С другой стороны, философ (как, скажем, и писатель) может иметь как научное мировоззрение, так и религиозное, а человек с религиозным мировоззрением может быть как поэтом или композитором, так и философом или даже ученым. Говорю же: тупик. Только после более или менее однозначной фиксации отличительных особенностей разных сфер творчества можно хоть как-то говорить о связи каждой из них с тем или иным мировоззрением.
Кстати, вы сами (по В. Тараненко) уже привели главные признаки философии, отличающие ее от некоторых познавательных сфер:
Философия реализует свою мировоззренческую функцию на основе теоретического отношения к действительности, обращаясь к фактам логических построений, продуцируя гносеологические и логические категории и критерии для сознательного поиска и выбора тех или иных взглядов.
То есть вы привели описание философской деятельности и, соответственно, ее продукта. Философия есть деятельность по продуцированию рациональных (теоретических, логических) языковых (категориальных) систем . Тут, конечно, можно представить, что эти системы могут создаваться сугубо в голове (как можно лишь мысленно напевать мелодию), но все же принято считать философами (композиторами) тех, кто фиксирует нечто внутреннее в виде однозначных языковых систем вне себя – в виде текста (нотной записи).
Вот мы получили вполне понятное отличие философии от искусства (художественного творчества) и религии: ни произведения искусства, ни религиозные тексты ни в коей мере нельзя признать результатом « теоретического (рационального) отношения к действительности ».
Правда, приведенный вами текст о философии, который мы взяли за основу ее определения, неполон – он не дает нам возможности отличить философию от науки .
В приведенном тексте нет самого существенного – предмета, того, к чему философия имеет «теоретическое отношение». Вернее, в качестве такого предмета указана «действительность», но указание на это понятие не дает нам возможности отличить философию от науки. Значит, нам следует различить предметы этих двух рациональных (теоретических) способов познания. И сделать это несложно: предметом науки являются воспроизводимые феномены реальности (внешней для человека действительности), а философии – мышление философа (его внутренняя действительность). Из этого различения предметов естественным образом вытекает и различие теоретических продуктов науки и философии. Поскольку предметом научного познания являются воспроизводимые феномены реальности, научные теории поддаются подтверждению и опровержению (верификации и фальсификации). Ну а поскольку предмет философского исследования находится в голове у философа, сама постановка вопроса о какой-либо проверке соответствия философской теории ее предмету (мышлению философа) не имеет смысла: продукт мышления философа безусловно соответствует своему предмету – мышлению философа.
Читатель философского текста может сделать заключение лишь о совпадении изложенных автором мыслей (понятых в меру своего разумения) со своим собственным мышлением. То есть фраза «система такого-то философа соответствует или не соответствует действительности» означает лишь одно – совпадение или несовпадение философской концепции с внутренней действительностью читателя, с его мировоззрением и собственным рациональным обоснованием этого мировоззрения.
Давайте ограничим философа
Я, наверное, всем уже надоел своим излюбленным приемом анализа ценности и содержательности текста, заключающимся в замене в нем терминов на слова из соседней смысловой области. Но согласитесь, действует это безотказно. Заменим в вашем тексте слово «философия», скажем, на «наука»:
Чем бы ни была [наука], все должны согласиться с тем, что она реализуется через конкретных людей.
Приняв этот тезис, мы должны начать перебирать тысячи, сотни тысяч имен ученых, полуученых или неученых (хотя и называющих себя учеными) для того, чтобы выжать из этого списка «определение» науки. Картинку можно сделать еще более абсурдной – допустим, мы в принципе не знаем, что такое наука, и должны составить о ней представление по знакомству с тысячей ученых, да еще при условии, что они ничего не должны говорить о своей деятельности: о конкретных операциях, которые они производят ежедневно, о содержании и структуре написанных ими текстов. Задача, скажу вам, безнадежная.
Читать дальше