Ницше прочел множество вышедших книг по науке – о природе комет, об истории и развитии химии и физики, об общей теории движения и энергии и о природе космоса [9]. Все это подтолкнуло его к тому, чтобы оседлать того же конька, что и в предыдущем «Несвоевременном размышлении» о Давиде Штраусе, – рассуждать о важнейших вопросах связи науки и религии и бичевать современных теологов за то, что они умаляют собственную веру, пытаясь примирить эти две области. То был один из важнейших вопросов его эпохи, к которому Ницше возвращался постоянно.
Он придумал новое слово для описания воздействия науки – Begriffsbeben («идеетрясение»): «Жизнь колеблется в своих устоях и лишается силы и мужества, когда под воздействием науки сотрясается почва понятий, отнимая у человека фундамент, на котором покоится его уверенность и спокойствие, а также веру в устойчивое и вечное. Должна ли господствовать жизнь над познанием, над наукой или познание над жизнью?» [27][10]
Конечно, человечество поднимается (или думает, что поднимается) в рай в лучах научной истины, но рай науки в той же мере необходимая ложь, что и рай религиозный. Вечная истина ни науке, ни религии не принадлежит. Каждое новое научное открытие обычно разоблачает предыдущие вечные научные истины как ложные. Истина загоняется в новые формы, подобные нитям паутины, которые вытягиваются и искажаются, а иногда и рвутся.
На последних нескольких страницах даются советы молодым. Чтобы излечить их от болезни истории, Ницше, что и неудивительно, отмечает, что основной способ разобраться в неуправляемости существования – обратиться к древним грекам, которые постепенно научились организовывать хаос, следуя совету дельфийского оракула: «Будь, каков есть».
Первые печатные экземпляры он отправил самым важным для себя критикам. Якоб Буркхардт, по своему обыкновению, спрятал серьезную критику под маской скромности: его бедная старая голова никогда не была способна на такие глубокие суждения о первоосновах, целях и надеждах исторической науки.
Эрвин Роде дал весьма конструктивный ответ, указав, что, хотя мысли Ницше блестящи, ему надо бы следить за стилем, который кажется слишком настойчивым, и за построением аргументов, которые необходимо разворачивать более полно и подкреплять историческими примерами, а не первой пришедшей в голову идеей, чтобы озадаченный читатель сам попытался найти какую-либо связь.
Вагнер передал Козиме статью, заметив, что Ницше все еще очень незрел: «Ему недостает пластичности, поскольку он не приводит исторических примеров. Зато много повторов и никакого настоящего плана… Не знаю, кому я мог бы дать это почитать, потому что никому не понравится» [11]. Написать ответ он предоставил Козиме. Что характерно, ответ получился бескомпромиссным и не щадил чувства автора. Книга понравится лишь немногим, поучала она, перечисляя претензии к стилю, что его просто взбесило.
Ницше был подавлен. «Размышление» о Штраусе получило несколько рецензий, но вовсе не благодаря своей «несвоевременности»: его заметили, потому что тема как раз была модной. «Размышление» же об истории этим похвастаться не могло. Больших продаж не ожидалось – их и не случилось. При мысли о том, что серия может продолжиться, издатель корчил кислую мину.
Сорок восьмой день рождения матери Ницше пришелся на февраль 1874 года. Обычные пожелания счастья и здоровья едва ли были радостными. Он писал ей, что не стоит следовать примеру ее драгоценного сына, который начал болеть слишком рано. Он с горечью сравнивал свою жизнь с жизнью мухи: «Цель слишком далека, и даже если человек ее добивается, то чаще всего он слишком утомлен долгими поисками и борьбой; достигнув свободы, он утомлен, как муха-однодневка с наступлением вечера» [12].
Вагнер решил, что для Ницше настала пора остепениться. Он должен либо жениться, либо написать оперу. Конечно, опера будет настолько ужасной, что ее никогда не поставят. Но какая разница? Если жена будет достаточно богата, это вряд ли будет иметь какое-то значение [13]. Ницше должен выйти в свет и оставить маленький кружок, который он создал вокруг себя, – круг полезных умных людей, жаждущих ему служить, и обожающей сестры (она же домохозяйка, она же королева-консорт), готовой примчаться по первому зову. Следовало внести в жизнь больше равновесия. Жаль, что фон Герсдорф – мужчина, а то бы Ницше мог на нем жениться. Вагнер и Козима пришли к выводу о том, что у Ницше слишком яркие отношения с друзьями-мужчинами. Впрочем, в этом вопросе они придерживались либеральных взглядов. Их это не беспокоило, и они не считали, что интерес к мужчинам может стать препятствием к браку.
Читать дальше
![Сью Придо Жизнь Фридриха Ницше [litres] обложка книги](/books/435670/syu-prido-zhizn-fridriha-nicshe-litres-cover.webp)
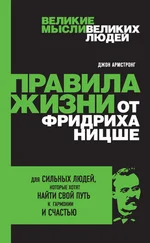

![Алекс Анжело - Я превращу твою жизнь в ад. Герадова ночь [litres]](/books/385127/aleks-anzhelo-ya-prevrachu-tvoyu-zhizn-v-ad-geradova-thumb.webp)
![Игорь Прокопенко - Коронавирус. Жизнь после пандемии [litres]](/books/389215/igor-prokopenko-koronavirus-zhizn-posle-pandemii-thumb.webp)
![Юлий Гессен - Жизнь евреев в России [litres]](/books/396900/yulij-gessen-zhizn-evreev-v-rossii-litres-thumb.webp)
![Эбби Ваксман - Книжная жизнь Нины Хилл [litres]](/books/400579/ebbi-vaksman-knizhnaya-zhizn-niny-hill-litres-thumb.webp)
![Александра Бракен - Последняя жизнь принца Аластора [litres]](/books/405301/aleksandra-braken-poslednyaya-zhizn-princa-alastora-thumb.webp)
![Сергей Агапкин - Не дай голове расколоться! [Упражнения, которые возвращают жизнь без головной боли] [litres]](/books/407804/sergej-agapkin-ne-daj-golove-raskolotsya-uprazhne-thumb.webp)
![Александр Шушеньков - Бесконечная жизнь майора Кафкина [litres]](/books/410278/aleksandr-shushenkov-beskonechnaya-zhizn-majora-kafki-thumb.webp)
![Роберт Хайнлайн - Достаточно времени для любви, или Жизнь Лазаруса Лонга [litres]](/books/422794/robert-hajnlajn-dostatochno-vremeni-dlya-lyubvi-ili-thumb.webp)
![Сьюзен Пфеффер - Жизнь, какой мы ее знали [litres]](/books/432292/syuzen-pfeffer-zhizn-kakoj-my-ee-znali-litres-thumb.webp)