Ряд недоразумений – а может быть, судьба – привел к тому, что Ницше приехал в Трибшен прощаться с маэстро уже через три дня после его окончательного переезда в Байрёйт. Он застал Козиму в процессе сборов. Дом уже совсем не походил на то место, которое некогда полностью изменило его представления о том, как можно прожить жизнь. Комнаты потеряли свой густой аромат: некогда наркотическая атмосфера теперь сменилась альпийской свежестью и слабым запахом озерной воды. Сгущенный полумрак их личного мира наполнился ярким солнцем. Закутанные некогда в розовую дымку вещи потеряли свою мягкую таинственность и стали резкими, плотными и гладкими. Окна, прежде задрапированные плотными шторами, которые держали в руках толстощекие херувимы, и гирляндами нежных шелковых розовых роз, вызывавших настоящий разгул воображения, ныне стали просто плоскими стеклянными прямоугольниками. Апокалиптическое мироощущение Вагнера, которое превращало любую деталь домашнего интерьера в театральную декорацию, покинуло обычные, ничуть не таинственные пустые комнаты. Толстая обивка из фиолетового бархата и прессованной кожи несла на себе уродливые, мышиного цвета следы былых икон веры хозяев. Расплывшиеся U-образные отпечатки указывали на то, что раньше здесь висели лавровые венки. Пустые прямоугольники напоминали о картинах, которые изображали закованных в броню валькирий, молодого и благородного короля Людвига, скрученных в спираль чешуйчатых драконов, и о картине Дженелли «Воспитание Диониса музами», которую Ницше так часто созерцал, излагая свои мысли в «Рождении трагедии». Ницше не мог удержаться от эмоций. Как и в том давнем случае, когда его поразили ужас и тревога в борделе, он бросился за утешением к фортепиано. Он сел за клавиатуру и начал импровизировать, в то время как Козима с величавой торжественностью двигалась по комнатам, меланхолично наблюдая, как слуги упаковывают сокровища Трибшена. Он изливал в звуках свою мучительную любовь к ней и ее мужу – за ту атмосферу, что окружала их в течение трех лет, за восторженную память и за вечную тоску в будущем. Его потеря была еще не окончательной, но ничто уже не могло ее предотвратить. Впоследствии он писал, что ему казалось, будто он гуляет посреди будущих руин. Козима говорила о «вечных временах, которые все же прошли». Слуги были в слезах; собаки ходили за людьми, как неприкаянные души, и отказывались от еды. Ницше вставал с фортепианного табурета, только чтобы помочь Козиме отсортировать и упаковать вещи, которые были слишком драгоценными, чтобы доверить их слугам: письма, книги, рукописи и, разумеется, прежде всего ноты.
«Слезы буквально висели в воздухе! О, это было отчаяние! Те три года, что я провел в тесных отношениях с Трибшеном и в течение которых я посетил этот дом двадцать три раза, – какое влияние они на меня оказали! Кем был бы я без них!» [19] А в «Ecce Homo» он добавлял: «Я не высоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трибшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей – глубоких мгновений… Я не знаю, что другие переживали с Вагнером, – на нашем небе никогда не было облаков».
Говорили, что, когда потом речь заходила о Трибшене, голос Ницше всегда дрожал.
Вернувшись в Базель, он заболел опоясывающим лишаем на шее и не смог дописать шестую, последнюю лекцию. Новой книги для Фрицша не было, а «Рождение трагедии» по-прежнему окутывал туман молчания.
Ницше написал письмо своему любимому учителю – профессору Ричлю, филологу-классику, за которым он последовал из Боннского университета в Лейпцигский и чей портрет висел у него над столом у камина. «Надеюсь, Вы не осудите меня за мое изумление тому, что я не услышал от Вас ни единого слова о моей недавно вышедшей книге» [23] Эта и следующая цитаты из писем Ницше – пер. И. А. Эбаноидзе.
[20], – начиналось его непродуманное послание, которое продолжалось в столь же запальчивом юношеском тоне.
Ричль просто потерял дар речи. Он решил, что письмо Ницше свидетельствует о мании величия. «Рождение трагедии» он счел затейливой, но трескучей ахинеей. Поля его экземпляра испещрены такими пометками, как «мания величия!», «распутство!», «аморально!». Однако ему удалось так тактично сформулировать ответ, что Ницше не обидели слова о том, что текст скорее дилетантский, чем научный, и замечание по поводу того, что тягу к индивидуализму он не рассматривает как свидетельство регресса, поскольку альтернативой служило бы растворение своего «я» в общем.
Читать дальше
![Сью Придо Жизнь Фридриха Ницше [litres] обложка книги](/books/435670/syu-prido-zhizn-fridriha-nicshe-litres-cover.webp)
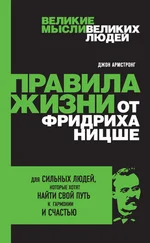

![Алекс Анжело - Я превращу твою жизнь в ад. Герадова ночь [litres]](/books/385127/aleks-anzhelo-ya-prevrachu-tvoyu-zhizn-v-ad-geradova-thumb.webp)
![Игорь Прокопенко - Коронавирус. Жизнь после пандемии [litres]](/books/389215/igor-prokopenko-koronavirus-zhizn-posle-pandemii-thumb.webp)
![Юлий Гессен - Жизнь евреев в России [litres]](/books/396900/yulij-gessen-zhizn-evreev-v-rossii-litres-thumb.webp)
![Эбби Ваксман - Книжная жизнь Нины Хилл [litres]](/books/400579/ebbi-vaksman-knizhnaya-zhizn-niny-hill-litres-thumb.webp)
![Александра Бракен - Последняя жизнь принца Аластора [litres]](/books/405301/aleksandra-braken-poslednyaya-zhizn-princa-alastora-thumb.webp)
![Сергей Агапкин - Не дай голове расколоться! [Упражнения, которые возвращают жизнь без головной боли] [litres]](/books/407804/sergej-agapkin-ne-daj-golove-raskolotsya-uprazhne-thumb.webp)
![Александр Шушеньков - Бесконечная жизнь майора Кафкина [litres]](/books/410278/aleksandr-shushenkov-beskonechnaya-zhizn-majora-kafki-thumb.webp)
![Роберт Хайнлайн - Достаточно времени для любви, или Жизнь Лазаруса Лонга [litres]](/books/422794/robert-hajnlajn-dostatochno-vremeni-dlya-lyubvi-ili-thumb.webp)
![Сьюзен Пфеффер - Жизнь, какой мы ее знали [litres]](/books/432292/syuzen-pfeffer-zhizn-kakoj-my-ee-znali-litres-thumb.webp)