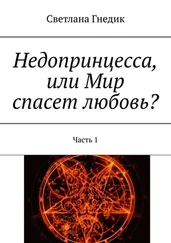Цельность — характер того, что цело, того, что не имеет никакого недостатка в бытии. Мы говорили выше, относительно прилагательного universus, что оно прекрасно выражало положение или образ действия того, что находится в отношении с целостью: universus = полностью, целиком повернувшийся к целому. Рассматривать сущее как таковое в целом — не значит пытаться понять его исходя из совокупности 33; это значит сформулировать некое «знание», которое едино с человеческим состоянием 34, что гораздо проще (и сразу нужно добавить: и гораздо труднее). Так можно ли еще назвать его «знанием»? На наших романских языках конечно можно, — но если мы внимательны к тому, что они говорят! Так это знание говорит изнутри слова «universus» в его первоначальном значении. Пусть Гёльдерлин скажет об этом по-немецки:
Wer nur mit der ganzen Seele wirkt, irrt nie 35.
Невозможно расслышать, что говорит поэт, если примешивать сюда идею совокупности. Вот что мне позволяет сделать еще зо одно замечание: различие в наших языках между Всем (то есть Всем как цельностью) и совокупностью есть один из тех неявных нюансов, которыми, как отмечал Гуссерль, определяются тупики и просветы мысли.
Попытаемся здесь сказать, сколь возможно ясно и просто, что не так с этим переводом. Traduttore traditore 36, я помню эту итальянскую поговорку. Хорошо. Поговорим о переводческой «измене». Обычно полагают, что она имеет место тогда, когда переводчик не «верен», как говорят, тому, что сказано на языке, с которого он переводит. В масштабах вопроса, который мы ставим, я без смущения назову такую измену второстепенной. Мы рискуем совершить гораздо более тяжкую измену, — и совершать ее беспрерывно, — не храня верности тем богатствам, которые таят наши собственные языки. И когда мы, народы латинского ареала, переводим Ganzheit как totalité, мы изменяем духу наших языков, просто не думая о том, что в них уже идет — так сказать, без нашего ведома — в направлении истинного понятия обо Всем, то есть о целости. Этот вид измены имел место, уже когда римляне пытались перевести слова греческой философии, не исходя из того, что в состоянии сказать латинский язык. Это, я думаю, поясняет, что имел в виду Хайдеггер, говоря о переводе греческой философии на латынь. Как все мы знаем, он неоднократно повторяет, что этот перевод был событием катастрофическим; но чуть ли не все толкуют это воистину по- идиотски: как приговор, который Хайдеггер якобы выносит романским языкам (неспособным, прибавляют, по-настоящему мыслить). Это вопрос такой важности, что в нем не должно быть ни малейшего сомнения. Хайдеггер упрекает не латынь, но взгляд римлян на греческую культуру. Римляне действительно (введя тем самым воззрение, которое надолго сохранится в Европе) поняли комплекс творений греческого ума как «культуру», и прежде всего как модель культуры, как образец, которому нужно следовать, чтобы подняться, если возможно, на один уровень со своими греческими наставниками. Если внимательно приглядеться, эта римская оптика уже заботится о «разделении труда», определяя, где и как оптимально действовать, чтобы просто воспроизвести уже готовое. Однако концепция труда, подразумевающая возможность его разделения, так что теперь такой-то группе людей поручены задачи, с которыми она справляется успешно, тогда как другие задачи (которые ей менее под силу) закреплены за другими группами, — такая концепция разделения труда недопустима, ибо низводит труд до уровня просто деятельности. Мы находим, таким образом, весьма надежный критерий реального труда: настоящий труд тот, который не поддается разделению.
Чтобы лучше проиллюстрировать сказанное сейчас о том, как римляне изменили своей собственной народности, и подчеркнуть, что разговор об этой измене не имеет ничего общего с глупой целью принизить латинство, но ровно наоборот — привлечь наше внимание к опасности, грозящей нам самим, когда мы беремся за громадную задачу мыслить о явлении, которое определит всю историю метафизической мысли, — прибавим пару слов касательно одной из самых герметичных формулировок Гёльдерлина.
В первом письме к своему другу Бёлендор- фу 37(4 декабря 1801 года) Гёльдерлин говорит о Гомере, первом греческом поэте («поэте всех поэтов», как написано у него в другом месте з8), и о том, что сделал Гомер для создания греческой поэзии. Гомер, говорит он, довел до совершенства дар представлять (darstellen), то есть «ставить-здесь», как бы делая явным то, что представляется. И сразу же объясняет — почему (откроем наши уши! 39):
Читать дальше