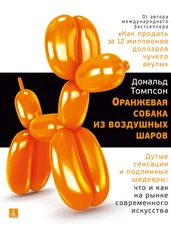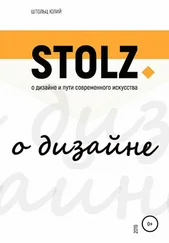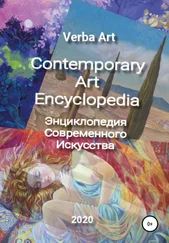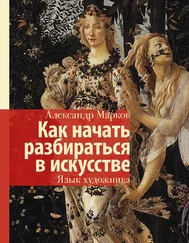Таким образом, перед нами не система агрессии, захватывающей пленников в рабство, но и не система привычного экономического взаимообмена, который мы привыкли представлять как рыночную площадь, на которую все сходятся на равных условиях. Наши привычные картинки войны и экономики надо отбросить. Перед нами фразы, составленные самим лесом, властные повеления и ключи к экономическим процессам, которые вручил нам разум леса. При этом Э. Кон обращается и к аборигенам, народу руна, для которых основной социальный миф — миф о ягуарах-оборотнях, которые одновременно лешие и волки, или бабайки, способные утащить непослушных детей. Именно поэтому дети должны спать на спине, а не на боку, потому что только тогда, если придет этот ягуар, он не ухватил за бочок, а посмотрит в глаза, и тогда можно его отпугнуть взглядом. Иначе говоря, лес производит сам статус человека как способного побороть этих оборотней, и победа над оборотнями — только один из знаков в синтаксисе, который производит лес, иначе говоря, видит в своем собственном сне.
Эдуарду Вивейруш Де Кастру в «Каннибальских метафизиках» (2014, рус. пер. 2017) идет еще дальше, чем Кон, хотя он рассуждает примерно так же, как Джон Ло, о котором мы говорили в первой лекции. В начале книги Де Кастру вспоминает важный пример антропологов: в то время, как европейцы спорили, есть ли у туземцев душа, туземцы пытались выяснить, есть ли у европейцев тело или они какие-то духи-зомби-звери-призраки. Заметим, что европейский спор подчинен вполне определенному ритуалу, где понятия, такие как душа, берутся как абстракции, отличающиеся от повседневного опыта — рассуждать о душе есть совсем не то, что жить с душой или действовать с душой. Тогда как туземцы, как говорит Де Кастру, «перспективисты» и «мультинатуралисты», они исходят из того, что не просто природных объектов много, а как бы природных миров много, и каждый из этих миров по-своему воспринимает свой материал. Допустим, для нас наша кровь — это жизненная сила, для каннибала — напиток, для животного — приманка, для растения — грязь. Ну как для Мелани Кляйн материнская грудь для ребенка не только предмет питания, но и предмет каннибализма на уровне фантазма. Ну или, по Кляйн, ребенок открывает смерть, когда ломается или исчезает любимая игрушка, а социальное открывает, когда видит фаллос отца, символ власти, и тоже думает, как бы получить власть — а фаллосом может быть и скипетр, да и трость-третья-нога из загадки Эдипа, откуда и тиранич- ность мнительного Эдипа у Софокла, и «эдипов комплекс» как утверждение специфически мужской власти над женщиной-Сфинксом. Каждая из «природ» имеет свое восприятие окружающих ее явлений, сама обустраивая тот мир, в котором функционирует, что вполне соответствует и библейскому миру, в котором есть ангелы и бесы, а не только люди, и есть взгляд ангела и взгляд беса на происходящее.
Де Кастру позволяет лучше понять концепции, в которых «другая природа» появляется в нашем современном мире, например, «киборги» в киберфеминизме Донны Ха- рауэй, или «паразиты» в науковедении Мишеля Серра и Бруно Латура, или «темные» сущности в «темной экологии» Тимоти Мортона, или вирусы в наше время пандемии. Следует заметить, что само представление об одной природе не самое очевидное — как доказал Эмиль Бенвенист, оно появилось из определенного способа ведения хозяйства и распределения собственности, а потом было осмыслено в философии Гераклитом, Парменидом и Эмпедоклом, которые (в том числе в политических «имперских» целях, думая создать мощные объединения грече ских полисов) поставили законы природы выше законов речи и ее способности классифицировать природу. Для подрыва их позиции, как показала Барбара Кассен, понадобились софисты, первые риторы-гуманитарии, заявившие, что никакого единства мира нет, потому что то, как работает мир, зависит от речи, как он будет представлен ритором, так и будет расчленен и усвоен — для Барбары Кассен Лакан как занимающийся ролью речи в формировании психического субъекта в чём-то «софист» — а потом софистов смог опровергнуть только Сократ, открывший существование «совести» (его «демон»), а значит, ограничений речи в сравнении с порученной человеку задачей. До Сократа древние греки хорошо знали, что такое стыд, как показывает «Антигона» Софокла, но совесть как форма философской работы над собой была создана Сократом.
У Барбары Кассен, чьи работы и общение с кем меня сделали тем, кто я есть, немало работ наводят на мысль о содержании искусства вообще. Так, у нее есть интересное эссе о личных именах: как она восстанавливает настоящую историю своей семьи, читая надгробные надписи и думая о том, как менялось написание фамилии. Был ли это обычай предков, так писать, или это неустойчивость самого письма, которое производит различные эффекты и допускает графическую вариативность? Этот вопрос для нее оказывается одновременно вопросом о том, как письмо несет память — недостаточно только наших усилий по запечатлению того, что мы запомнили, важно, чтобы само письмо вдруг работало как что-то прямо относящееся к нам. Здесь позиция Барбары Кассен близка «инэстетике» Алена Бадью, утверждающего, что обычная эстетика превращает искусство в объект, тогда как настоящая философия просто смотрит на то, как искусство находит возможность заявить себя.
Читать дальше
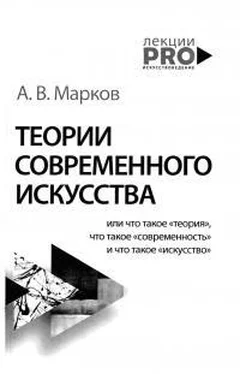

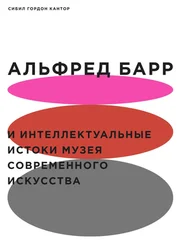
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)