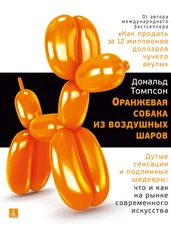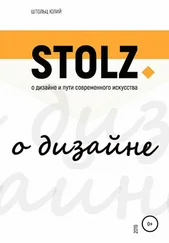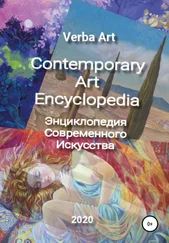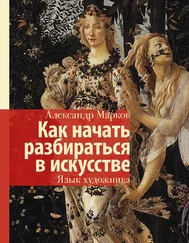Экологический кризис сделал «гиперобъекты» видимыми: мы понимаем, что может произойти таяние северных льдов, может закончиться пресная вода, или все леса могут быть поражены прежде не выявленным заболеванием. Традиционная экология пытается просто блокировать отдельные практики: ограничивать выбросы в атмосферу, запрещать охоту, блокировать свалки. Это правильные, но частичные меры: например, мы видели, что, хотя свалки изолируются, а сжигание мусора как бы уничтожает его, на самом деле ландшафт, в том числе социальный, меняется на десятки километров вокруг. Поэтому правильнее было бы говорить о «гиперобъекте» леса или пустыни, который оказывается затронут этим вторжением.
Итак, для Мортона существует не природа как таковая, а отдельные объекты, в число которых входит и человек. В таком случае человек не встраивается в природу как фактор, но скорее, страдает так же, как и природа, и может с достаточной чуткостью, привлекая современные приборы и современные речевые стратегии, осознать это страдание и придумать, что делать дальше.
Идеи Мортона сразу напоминают об одном важном русском проекте: книге «Лес» В. В. Бибихина. Бибихин исходил из того, что современный человек стремится спрятаться в цивилизации как в лесу, затеряться среди домов и телепередач, возбуждающего кофе и транспортных узлов. Не только крупные города напоминают каменные джунгли, но и современная деревня или ферма соприкасается с тем же телевидением или бытовыми вещами. Но на самом деле лес — это не место забывчивости, это место постоянных различений, постоянного испытания природой самой себя, постоянных усилий природы успеть за собой. Мы не знаем никогда до конца, как какие элементы леса влияют на общую экосистему: даже если мы поняли роль мхов или муравьев, то, например, совместную роль мхов и муравьев не поняли. Бибихин говорит об «успешности» природы, не в смысле, что человек в сравнении с природой не успешен, но в смысле, что природе приходится всё успевать, и она вполне успевает многое, несмотря на все ее мучения.
В европейской философии были и другие версии леса, в частности, леса как ресурса, например, на русском языке есть книга немецкого палеоботаника Хансйорга Кюстера о германских лесах (2008, рус. пер. 2012). Основная мысль книги в том, что лес никогда не мог просто поставлять древесину: например, сплав дуба по рекам был возможен, только если обвязать дуб более легкими стволами, иначе дуб просто утонул бы. Но это означает, что должны поощряться смешанные леса и что этим стволам-кожухам тоже должно находиться применение, например, при строительстве кораблей, а это влияет и на общее состояние мировой экономики. Или для того, чтобы выплавлять руду, годится только бук, дающий достаточно высокую температуру, а все остальные деревья не годятся. Значит, нужно не просто высадить буковые леса в районе рудников, но обеспечить логистику бесперебойной поставки бука, а для этого сделать просеки и тем самым сегментировать лес и постепенно дифференцировать хвойные и смешанные леса. Тем самым оказывается, что хозяйственная деятельность состоит не просто в поддержании леса как он есть, а в его дифференциации, и лес в некотором смысле производит сознание людей и способность дифференцировать всё более тонкие вещи. Тогда как тоталитарные методы хозяйствования, которые поощряли как будто самые сильные породы деревьев, высаживая их в важных местах, оказались враждебны лесу. Можно добавить, что, например, стандарты железнодорожной колеи во многом определены тем, что в качестве шпал использовались деревянные шахтные крепи (типичная эволюционная промышленная «конвергенция» для простоты производства) такого размера, чтобы шахтер мог хоть наклонившись, но быстро передвигаться по шахте — тем самым не «металлический», а «деревянный» стандарт определил развитие железных дорог.
Другая важная книга про лес — труд американского антрополога Эдуардо Кона «Как мыслят леса» (2013, рус. пер. 2018), написанный с позиций близких «темной экологии» и изучению «нечеловеческих агентов», представляет собой исследование того, способен ли лес производить только впечатления или иные знаки, требующие непосредственной реакции, например, знаки опасности (впечатление — знак наслаждения, волчий вой — знак опасности, болото — знак другой опасности), или же он способен производить целые фразы, которые запоминаются, обдумываются и сами содержат в себе интеллектуальный материал. Кон приводит простой пример из истории джунглей Амазонки: когда на реке стали добывать каучук, добыча потребовала кредитования. Кредиты тоже шли по реке вверх, в результате, чем выше по течению, тем кредит был дороже, из-за чего самые искусные сбор щики каучука (потому что чем дальше в лес, тем искуснее работники) попадали в долговое рабство.
Читать дальше
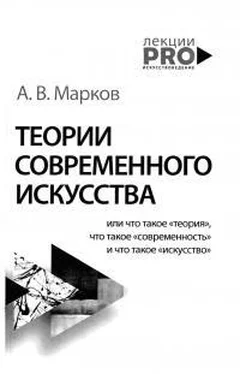

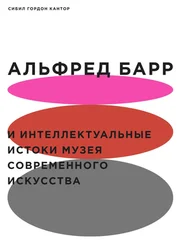
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)