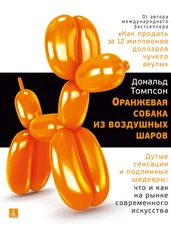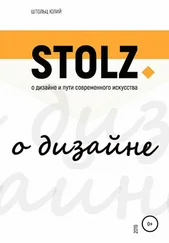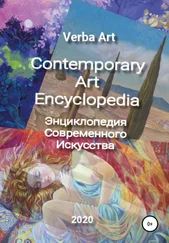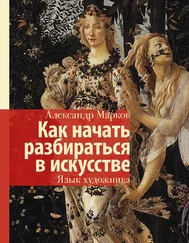Тьерри де Дюв делает много остроумных замечаний по ходу изложения, например, он говорит, что «Бойс — герой, а Уорхол — звезда». Казалось бы, в этом изречении всё понятно, но все равно можно его расшифровать. Бойс — герой своей сцены, смешивающий искусство и жизнь художник, который героически открывает новые возможности производства искусства. Тогда как звезда всегда пользуется готовым, уже отлаженным производством, в том числе — производством репутаций и впечатлений. Тем самым названы не просто два разных характера художника, а два разных способа организации производства.
Для Бойса было важно перевоплощаться, и де Дюв остроумно замечает, что в рабочего он не перевоплощался, потому что рабочий был ключевым образом его деятельности, а не предметом перевоплощения. Тогда как Уорхол требовал, чтобы на его «Фабрике» присутствовала богема любого сорта, но не пролетарская, поскольку он стоит на точке зрения капиталиста, которому важно, чтобы деньги работали на людей, а не чтобы нужда заставляла пролетариев работать.
В конце оказывается, что Бойс и Уорхол различаются «оптикой», способом видеть ситуацию. Бойс всегда смотрит снизу, от станка, мистифицирует этот станок, чтобы искусство разоблачило механизмы отчуждения и вернуло себе настоящую стоимость, не зависящую от причуд моды и колебаний рынка. В то время как Уорхол верил в благой Промысел, помогающий наладить новое производство, и поэтому создавал те режимы обмена, в которых есть место и капризам, и моде. Отсюда и использование новых технологий: экранная культура позволяет создать чистую модель желания, не зависящую от старых рыночных навыков. Как коллекционеру марок важно за любые деньги купить редкую марку с типографским браком, так и покупателям Уорхола важны несовершенства его шел- кографии, те потеки, которые делают вещь уникальной. Де Дюв, конечно, говорит о «товарном фетишизме», по Марксу, иначе говоря, способности товара не просто иметь стоимость, но подчинять себе капитал, заставлять его обслуживать товар, тем самым увеличивая его стоимость и усиливая эксплуатацию.
Кляйн, в отличие от первых двух художников, не выносил психологию за скобки, но усматривал в обмене, меновой стоимости, какую-то этику и христианскую мистику. Кляйн был религиозным человеком, при этом до некоторой степени утопистом, и в той мере, в какой он был утопистом — он был художником модерна, а не современности. Ведь он верил, что сможет смыть с себя грехи, «поклоняясь тельцу из „нематериального" золота», иначе говоря, что он сможет парадоксальным жестом низвергнуть всю логику капитализма, как было принято в авангарде. Но для де Дюва в такой стратегии видна не столько смелость авангардного жеста, сколько комедианство, ханжество, иначе говоря, сведение парадокса жеста к парадоксам личного поведения.
Но почему тогда мы Кляйна относим к современному искусству, а не к искусству модерна? Де Дюв отвечает, что Кляйн одновременно мистик и мистификатор, он умел мистифицировать себя и, следовательно, выступал сам как капиталистическая экономика, маскирующая себя, выдающая товарный фетишизм за закономерное потребление, а меновую стоимость — за действительную стоимость объекта. Поэтому Кляйн полностью отождествляет искусство только с меновой стоимостью, его «живописное качество» и «живописная чувствительность» подразумевают, что нет такого предмета искусства, нет такого материала, вроде «синего цвета Кляйна», который не может быть продан. Он современный художник в том, что может подчинить искусству логику экономики.
Поэтому Кляйн так же религиозен, как те, кто приносил вотивные изображения, посвящал богам или Богу самые драгоценные вещи за спасение, и он сам святой Рите Кашийской посвятил реликварий, — но различие в том, что если вотивное изображение — сокровище, не имеющее меновой стоимости, то все вещи Кляйна ее заранее имеют. Итак, он современный художник, при всей своей личной робости, психологической капризности и желании предъявить право собственности на синеву небес как краску. В отличие от авангардистов с их жестом присвоения земли и неба, братания с солнцем и луной, он превращает и небо в кисть для производства меновой стоимости: его произведение на рынке появляется раньше, чем находит место в мастерской.
Опять же это не означает, что Кляйн «коммерческий художник» в банальном смысле: это просто подтверждает, что капиталистическая экономика стала таким же поводом для его творчества, как для предшествующих художников была природа, а для художников модернизма — язык. Впрочем, уже в эпоху модерна происходит такое превращение присвоения, братания с солнцем, небом и луной в духе Рембо (которого толкует Ален Бадью в «Веке поэтов») в исследование свойств этих природных стихий, в формальный анализ природы. Например, критик Робер Деснос, которого на русский перевел С. Б. Дубин, еще в 1923 году писал о Ман Рэе, что люди «еще не придумали слово, чтобы обозначить изобретенные им абстрактные „фотографии", в рискованные построения которых он затягивает солнечный спектр». Только Деснос говорит о таком втягивании природы в искусство как поэтизирующем высказывании, тогда как в современном искусстве это просто норма культурного восприятия природы.
Читать дальше
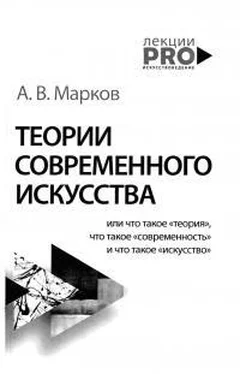

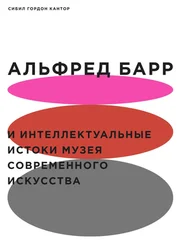
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)