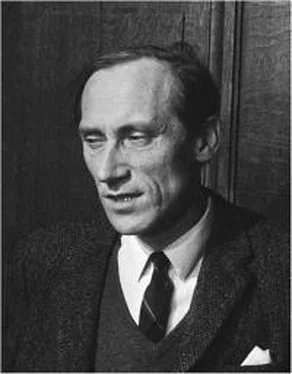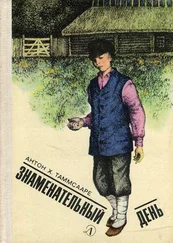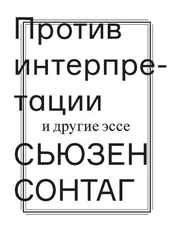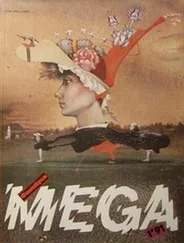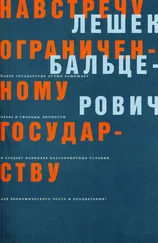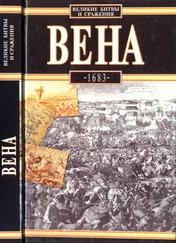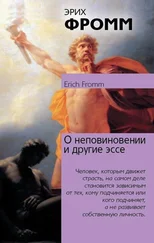Порядок сердца не удается вывести прямо из разума; разум сам по себе не способен познать свои окончательные аргументы. Присутствие мифического аспекта может быть редуцировано, но это будет ампутация по произволу. Кола- ковский ввел в польский интеллектуальный арсенал мысль Мирчи Элиаде и Рудольфа Отто и тем самым повлиял на уровень и направление религиозной мысли. В середине 1960 х он вел в Варшавском университете семинар, посвященный проблеме мифа. Результаты содержатся в книге «Присутствие мифа», написанной в 1966 г, но уже не вместившейся в рамки официальной ортодоксии и изданной, как столько важных польских книг последних десятилетий, в Париже, в «Институте литерацком» (1972).
Анализировать присутствие мифа, не допустить, чтобы он заслонял картину эмпирической действительности, но в то же время не позволить исключить метафизическую проблематику из поля зрения и мышления — Кола- ковский в маске Вольтера и Колаковский, увлеченный Паскалем, старается идти одним и тем же путем. Это течение мысли Колаковского, четко очерченное в «Присутствии мифа», назовем эразмовским. «Метафизические вопросы и убеждения открывают иную сторону человеческого бытия, нежели научные вопросы и убеждения: сторону, умышленно отнесенную к неэмпирической безусловной реальности. Присутствие этого умысла не составляет доказательства присутствия того, к чему относится. Это лишь доказательство живой в культуре потребности в том, чтобы то, к чему относится, присутствовало. Но присутствие это принципиально не может быть предметом доказательства, ибо само умение доказывать есть власть аналитического, технологически ориентированного ума и не выходит за рамки его задач». «Тогда философия может, во-первых, пробуждать “самознание” того, как возвышенны в человеческом бытии последние вопросы. Во-вторых, она может обнажать в свете этих вопросов абсурд мира относительного, признанного за самодостаточную реальность. И, в третьих, может создать самое возможность истолкования мира опыта как мира обусловленного. Большего сделать она не может».
В молодости Колаковский увидел, что такое извращенный миф в жизни личности и общества. Видел он это извне, наблюдая безумия гитлеровского фашизма. Видел изнутри, когда поддавался ослеплению коммунизмом. Сумел протрезветь. Сумел он и больше — часто люди, пораженные тоталитарным опытом, не умеют отыскать равновесие: либо отвергают всякий миф, выбирают абсурд и отчаяние, либо находят новый предмет поклонения. Миф бывает опасен, это так. Он бывает опасен, во-первых, своей тенденцией к экспансионизму: он может разрастаться, как злокачественная опухоль, заменять позитивное знание, право, культуру. Может также склонять к отказу от ответственности за собственное положение, возбуждать страх перед свободой. Поиски мифа бывают поисками вышестоящей опеки, которая всё устроит за личность, подаст ей готовый всеобъемлющий рецепт жизни. Так может быть. Так не должно быть. А побег от мифа тоже может быть опасным. Проект полной демифологизации культуры — химера. Мифическое сознание, заглушенное в одной форме, возрождается в другой, иногда извращенной, обманчивой.
Не удастся бесконфликтно соединить позиции жреца и шута, опасен выбор одной из этих позиций при отрицании другой. Свобода, открытость, терпимость, но и нежелание отказываться от собственной иерархии ценностей — как соединить эти требования в цельную систему, как сохранить им верность в мире, полном шума и ярости, ложных мифов, ненависти? В момент исторического испытания недостаточно масок. Современность требует современного языка. Перед таким испытанием стоял Кола- ковский во второй половине 1960-х. Принятые маски оказались слишком тонкими и неопределенными. До сих пор он старался внутри деспотической системы надевать маски жреца и шута, скрывался за усмешкой Вольтера, за пылкой трезвостью Паскаля, за упрямой терпимостью Эразма. Действительность оказалась намного тривиальней. Возможности печататься всё сужались. Одновременно от него ждали, что он займет позицию в наболевших политических делах. Ждало общество, задушенное навязанной системой, лишенное голоса идеологической монополией, лишенное прежних прав, разделенное и растерянное, но тем не менее существующее, ищущее новых форм выживания и сопротивления.
В октябре 1966 г. по приглашению студентов истфака Варшавского университета Кола- ковский выступил с речью к десятой годовщине свободолюбивого порыва — октября 56 го. Что осталось от надежды? Итог — отрицательный. После этого выступления он был исключен из партии. Наступил 1968 год, варшавское собрание Союза писателей в защиту интеллектуальных свобод и национальных традиций. Кола- ковский говорил о разрушительной роли цензуры: в системе тотального контроля всё становится аллюзией на советскую систему — «Антигона» и «Гамлет», Сервантес и Мицкевич. Студенты поддержали писателей. Ответом была атака полиции и пропаганды. Партийные власти декретировали культурную революцию, соединявшую марксизм-ленинизм и «антисионизм» (завуалированное название официального антисемитизма). Колаковский был уволен из университета. Янычары мартовской революции выступали против него с обширными статьями в партийной газете. Осенью 1968 г. он выехал читать лекции на Запад. В декабре 1970 г. на Балтийском побережье рабочие выступили с протестом против безнадежных условий жизни. Коммунистическая власть в ответ открыла огонь. Пали погибшие.
Читать дальше