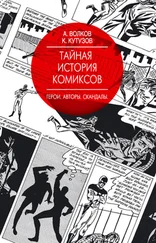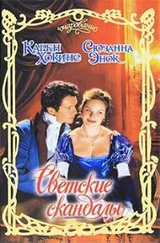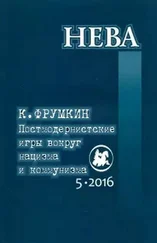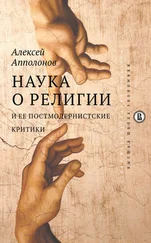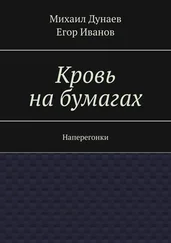Разорванное сознание породило два процесса секуляризации в культурном пространстве бытия. Первый совершился в эпоху Возрождения (в России, разумеется, позднее), второй разворачивается в XX столетии и переходит в третье тысячелетие.
Процесс ренессансной секуляризации культуры означал разрыв между духовным и душевным. Искусство обозначило это как преимущественное внимание к душевному и телесному. Тем самым оно противостало христианской ориентации человека в его жизненном пространстве. Недаром антихристианин Ницше с одобрением отмечал это: "Понимают ли в конце концов, хотят ли понять, чем был ренессанс? Переоценкой христианских ценностей, попыткой, предпринятой со всеми средствами, со всеми инстинктами, со всем гением, доставить победу противоположным ценностям, аристократическим ценностям" [11] Ницше Ф. Антихрист. СПб., 1907. С.151.
.
Можно, конечно, гордо именовать подобные "противоположные" ценности аристократическими, но все же: лучше назвать все противоположное Христу делом сатанинским. Ницше, таким образом, обозначил все откровенно. Со временем все лишь усугубилось. Постмодернизм пытается окончательно реабилитировать все извращения — телесные, душевные, духовные. Единство, выраженное в христианской трихотомии — тело, душа, дух, — оказалось окончательно разорвано, раздроблено, разрушено, опорочено, запакощено.
Вспомним суждение преподобного Макария Великого: "Того и домогался враг, чтобы Адамовым преступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, владычественный ум, зрящий Бога. И очи его, когда недоступны им стали небесные блага, прозрели уже до пороков и страстей" [12] Добротолюбие. Т.1. М., 1895. С.159.
.
Постмодернизм это явил слишком откровенно.
В постмодернизме окончательно совершилось то, что было намечено искусством "серебряного века": разрыв между душевным и телесным.
Искусство постмодернизма, знаменующее собою один из тупиков секулярного искусства вообще, все более настойчиво ограничивает себя вниманием к плотским проявлениям жизни. Оно возглашает "освобождение" телесного от душевного.
О какой же свободе печется разорванное безбожное сознание? Только об одной: о свободе греховного тяготения в человеке, не сдерживаемого никакими духовными и даже душевными началами. Не следует обольщаться красивыми словами, должно сознать, что это именно так. Но в безбожном сознании понятия греха не существует. Поэтому такое сознание не в состоянии даже смутно догадываться, на какую беду оно обрекает человека. В пространстве разнузданных страстей человечество обречено на вырождение и гибель.
Постмодернизм вообще стремится реабилитировать разного рода извращения — телесные, душевные, духовные (оккультистские соблазны, например).
То, что к этому хочет привести нас враг, — не диво. Удивительно иное: почему человек не хочет сознавать того? "От нас требуется осознать, что в земном мире есть именно неискоренимое зло, не способное изменить свою сущность, которое требует от нас сопротивления ему" [13] Назаров М. Тайна России. М., 1999. С.637.
, - справедливо сформулировал один из духовных законов нашей жизни М. Назаров. Однако для этого осознания и сопротивления требуется усилие, от которого хочет отвратить человека навязываемая ему ныне культура. Культура постмодернизма.
При попытке определить постмодернизм как творческий метод, как направление нетрудно придти к выводу, что его особенностью является полное отсутствие каких бы то ни было эстетических предпочтений, признаков, творческих законов, идейных (не говоря уже об идеологических) стремлений — ровным счетом ни-че-го. Постмодернизм аморфен совершенно.
О. Николаева, книгу которой "Современная культура и Православие" можно назвать самым на сегодняшний день серьезным (ибо религиозным) исследованием культуры постмодернизма, верно отмечает: "По логике постмодернизма ("после нового"), история искусств как смена стилей закончена. Наступила эпоха метаискусства, метаязыка, способом чтения которого постмодернизм и является. Он в одинаковой мере равнодушен как к традиционализму (искусству, опирающемуся на старые образцы), так и к авангардизму (искусству, устремленному к новым формам) самим по себе, но и тот и другой создают для него единое культурное пространство, лишенное каких-либо приоритетов. В этом пространстве все является лишь материалом для интерпретаций, для словесных, изобразительных "инсталляций" (англ.: "устройство, установка, монтаж, сборка")" [14] Николаева О. Современная культура и Православие. М., 1999. С. 20–21.
.
Читать дальше