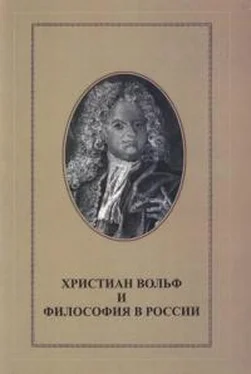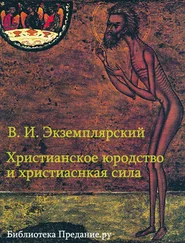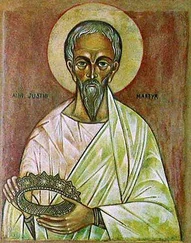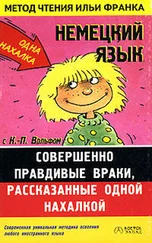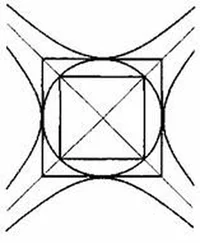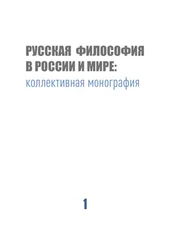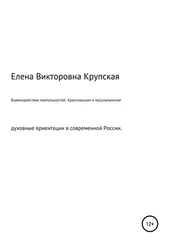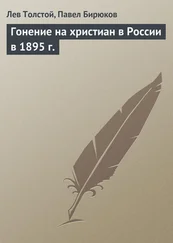Во многом благодаря деятельности Вольфа и его учеников с середины XVIII в. в Германии началось заметное оживление общественно-политической и культурной жизни, бурный всплеск философии и публицистики, естественных и гуманитарных наук, педагогической и эстетической мысли, расцвет литературы и искусства, поэзии и музыки и т. д. Не случайно взошедший на прусский престол «философ на троне» Фридрих Великий в 1740 г. пригласил Вольфа в Галле, где устроил ему торжественную встречу как выдающемуся философу -просветителю. Причем для развития просветительского движения в Германии это событие приобрело знаковый характер, поскольку в Галле Вольф вернулся после своего многолетнего пребывания в Марбурге, где он находился в изгнании после своего конфликта с ортодоксальными пиетистами, выступавшими в роли официальных идеологов.
Не без участия сторонников Вольфа во второй половине века в столице Пруссии Берлине сложился мощный центр просветительского движения, объединивший значительную часть ведущих немецких мыслителей, философов, ученых, писателей и публицистов, образовавших довольно влиятельную, хотя и крайне эклектическую школу так называемой «популярной философии». Мы уже не говорим о том, что к концу века Просвещения именно Германия вышла на лидирующие позиции в области философской мысли, именно здесь сложились направления и школы, надолго определившие основные линии последующего развития европейской философии, в чем немалую, хотя и далеко не однозначную, роль сыграла метафизика Вольфа.
Говоря о Вольфе как теоретике и деятеле Просвещения, мы не ставим своей задачей сколько-нибудь полное освещение этого вопроса. Очевидно лишь, что его философское наследие невозможно понять вне контекста немецкого просветительского движения, как и, наоборот, многие особенности и противоречия последнего трудно понять без того влияния, которое оказала на него деятельность Вольфа, его собственно философские разработки. Но куда важнее то обстоятельство, что именно просветительски-практическое отношение к истине и знанию в большой степени способствовало утверждению и даже догматизации многих односторонних и весьма ограниченных представлений об их природе и сущности, а главное, закреплению иллюзии, будто формально-логические и эмпирические формы и способы экспликации, описания и трансляции знания и есть средства для его достижения.
Отношение к знанию как к учебно-педагогическому пособию, к вспомогательному материалу для обучения, орудию или инструменту для образования, средству просвещения и т. д. — все это предъявляло повышенные требования к форме изложения знания, к его логической точности и эмпирической наглядности, к простым и понятным способам его подачи в виде упорядоченной системы понятий и дисциплин и т. п. Однако такого рода просветительски-педагогические установки вели к тому, что реальный познавательно-деятельный контекст возникновения знания подменялся формами и способами экспликации и трансляции уже ставшего знания и готовых истин, превращенных в учебно-педагогический материал и приспособленных к целям преподавания и обучения. Это оборачивалось не только фетишизацией форм и способов выражения и описания, фиксации и сообщения, хранения и передачи имеющихся знаний, но и их незаметным отождествлением со способами их достижения, т. е. с реальным ходом познавательного освоения действительности, а в конечном итоге и со структурой и сущностью самого действительного мира.
Более того, стремление построить метафизику именно как строго дедуктивную и универсальную систему имплицировало необходимость включения в ее состав всех понятий и представлений научного опыта не в том их виде или форме, в какой они выступали в составе последнего, а в их «ясной и отчетливой», т. е. логически препарированной и весьма упрощенной форме. В его системе все эти понятия предстают в виде неких «простых» логических единиц или понятийных атомов, что позволяло использовать их в качестве своего рода кубиков или строительного материала для их «синтетического» присоединения или включения в цепочку дедуктивных построений метафизики, а затем излагать их в форме необходимых следствий, якобы вытекающих из первых ее оснований согласно закону противоречия.
Однако и в этом отношении Вольф далеко не был новатором, но всего лишь довел до логического предела и даже абсурда те установки и принципы, которые уже имели место в новоевропейской философии и лежали в основе гносеологических установок традиционного рационализма и эмпиризма. Как известно, начало философии Нового времени было связано с отказом от теологического мировоззрения и схоластики и переориентацией философской мысли на теоретическое и эмпирическое естествознание, на достижения науки и ее практическую пользу. Однако, по существу, принципы рационалистической и эмпирической философии, возникшие из апелляции к логико-математическим и экспериментально-эмпирическим методам науки, были следствием всего лишь внешней, сторонней и абстрактно-умозрительной рефлексии по поводу уже полученных результатов познавательной деятельности ученых.
Читать дальше