На следующие несколько месяцев Книга заменила ему женщину — Книжник спал с нею, он ею жил.
При этом с ним происходили вещи противоестественные: Книга оплодотворяла его, но родить он не мог. Он понимал уже слишком много, чтобы не постичь, что она оказалась для него подлинной бездной, куда он проваливался до самопотери. Однако Истина, да, ставшая равнозначной понятию Бог, всё равно не обреталась. Парфианов, за несколько месяцев вчитывания и постижения понял, что Истина ветхого Бога слишком далека от него. Она не доходила до его души. Истина нового Бога подходила к нему слишком близко, была слишком жестока. Она разрывала его изнутри.
Неприемлемо.
Кривляться можно было у Райхмана. Но Парфианов и в самом деле не был фигляром, и уж кому-кому, а себе врать не умел. Он не оспаривал сам постулат, но постулат в данном виде не вмещался в него. Ну, и что прикажете делать? Значит, надо искать иную форму его выражения. Но где? Как?
Парфианов спустился по лестнице и вышел в город. Побрёл по знакомым улицам, дошёл до библиотеки, потом решил заглянуть к Райхману. В узком проходе подворотни, ведущей к его дверям, неожиданно услышал плач. Надрывный и жалобный. Ринулся вперёд и в удивлении остановился.
На нижней ступеньке пожарной лестницы сидела его сокурсница Катька Бадягина и рыдала так горестно, что у него по сердцу прошёл холодок. Книжник, как любой мужчина, не любил женских слез, начинал нервничать и раздражаться. При мысли, что Катька влипла в одну из обычных житейских историй, с амурами и абортами, коими так богата была студенческая жизнь, ему на миг стало нехорошо. Но, с другой стороны, Катька ни по внешним данным, ни по внутренним качествам, по его воззрению, в подобные истории влипнуть никак не могла. Неужели он ошибся?
Ему удалось настолько успокоить её, что вскоре она поднялась, пошмыгала носом, осушив его платком покрасневшие веки. Парфианов оказался прав. Ни в какую историю Катька не вляпалась, но только что у Райхмана она, внучка чекиста, пропитанная идеалами Октября, к несчастью, нарвалась на озлобленную диссидентку Эмку Сикорскую, которая наговорила ей довольно — и о ГУЛАГЕ, и о Ленине, и о партии.
— Должно же быть что-то святое…
Эти слова, что проронила в надрыве рыдающая Катька, странно отложились в нём.
И это тоже было странно. Странной была сама размытость в их бытии критериев добра и зла, которая давала возможность прикрывать любую мерзость высокими словами, и столь же откровенно иногда проговариваться: «Да, он сукин сын, но это наш сукин сын…», называть ввод своих войск в чужую страну — интернациональной помощью, и громко орать об оккупации и интервенции, когда то же самое делала другая страна.
Но сейчас Парфианов столкнулся с чем-то иным. Качественно иным, он понял это. То, что было свято для несчастной Катьки, для него было… галиматьёй. Адриан хорошо помнил своё, данное в неконтролируемом порыве раздражения определение. Но сама Катька с её слёзным блеянием о чем-то святом была столь жалка и трогательна, что Парфианов не мог не увидеть настоящей боли. И, возвращаясь от Катькиного подъезда, куда проводил её, Книжник предался неприятнейшим мыслям о том, что хоть Катькина истина и затрещала по швам, она у неё, у бедной дурочки, всё-таки была. А, что у него, такого умного?
Вторично к двери Райхмана Парфианов подошёл в состоянии голодной и раздражённой болотной гадюки.
Крапивина, смазливая шлюшка, неторопливо подплыла к нему, но тут же и отчалила, заметив выражение его лица. Он не любил потаскух и не скрывал этого. По ранней юности ему казалось, что девицы такого рода могут быть всё же быть в какой-то мере порядочны в иных отношениях, теперь же опыт говорил ему иное. Если сыр заплесневел с одного бока, есть надежда, что с другого он съедобен, но пролитое вам на брюки вино — это уже не вино, это пятно. Есть необратимые метаморфозы.
Крапивина, и он знал это, отбила жениха у Стадниковой, отчего та трое суток ходила с распухшим от слёз лицом, и вообще Светуля была способна на многое, и если держалась от него несколько отстранённо, то причиной тому был всё тот же известный ей садистский эпизод. «Если уж вас один раз признали сумасшедшим — это пригодится на всю жизнь…», с изуверской улыбкой вспоминал Книжник Гашека.
В комнатах дым стоял коромыслом. Та самая Эмка, что до слёз расстроила Катьку, теперь излагала тощему Марку Кириллову свои, только что вычитанные из последней демократической газетки взгляды. Маркуша, внимательно вглядываясь в разрез её кофтёнки, думал о том, что, пожалуй, стоит проводить Сикорскую домой, и неплохо бы там и остаться. Задница хороша. Да и бюстик тоже. Сделав этот вывод, он пару раз сочувственно кивнул Эмке и даже задал какой-то вопрос в тему. Сорвать злость у Парфианова не получилось: через пять минут они ушли.
Читать дальше
![Ольга Михайлова Книжник [СИ] обложка книги](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-cover.webp)


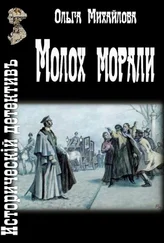






![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)

