Гаевская с удивлением заметила его совершенно отсутствующий взгляд. Взгляд, в котором не было теперь ничего, зависимого от неё. Ей, что скрывать, доставляла удовольствие власть над ним. Вениамин говорил, что Парфианов — гений сцены, ненавидящий подмостки, но если Книжник сейчас играл равнодушие, то ему и Смоктуновский в подмётки не годился. Она смотрела на него, отдавшегося потоку своих мыслей над книгой, и злилась. Теперь она поняла, что чувство Адриана значило для неё больше, чем ей казалось. Но она не верила, что это конец. Он просто разыгрывает дурацкое представление.
Парфианов не играл. Он лениво и ласково взглянул на красивую самонадеянную дурочку, мучительно стыдясь самого себя. Бог мой, как же его угораздило-то? Глубоко вздохнул полной грудью. Он был свободен от дурного тяготящего чувства к этой девице! Но почему смерть Лихтенштейна и эта книга убили в нём и вчерашнюю боль, и вчерашнюю обиду, и вчерашнюю любовь? Он не понимал этого, но был подлинно свободен теперь от всего обременяющего. «Познайте Истину, и она сделает вас свободными…» Может, это холодное спокойное безразличие, почти буддийская пустота, и есть Истина? Странно, но эта же смерть и цитата из Библии породили в нём и минутное чувство братской спаянности с Насоновым. Парфианов положил себе обдумать всё это на досуге, и снова провалился в Писание.
Книжник давно определил для себя, что одним из критериев ложности любого высказывания является наличествующая в нём пошлость. Он замечал её микроскопические дозы, ничтожные, но вонючие примеси, почти во всём, что читал. Открывшееся в Книге было лишено пошлости. Эти ветхие писания, исполненные яростных и жгущих слов, да, они были истинны. Но это была Истина трансцендентная и идеальная. Книжник понимал, но не чувствовал её, не мог вобрать в себя и сделать критерием бытия. С трепетом открыл белый лист с чернеющей на нём единой строкой — «Новый завет».
Он начал читать его утром в понедельник, после того как на несколько часов смежил воспалённые веки. Читал медленнее и спокойнее, но текст, написанный совсем не книжниками, в простых и немудрёных, целомудренно-сдержанных словах, неожиданно смутил и испугал его. Он легко нашёл в последнем из Евангелий ключевую фразу: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь».
Отшатнулся. Напрягся. Смутился.
Это было безумием. Истина не могла… ходить с людьми… Истина должна быть…трансцендентна и идеальна. Его окатило испариной. Да что же это, а? Достоевский устами Шатова говорил… Но как же это?
Парфианов был как в чаду. В первом Послании к коринфянам его изумила ударившая по глазам фраза: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие». Да, безумие и есть. Книжник вдруг снова тяжело напрягся. Отец говорил, что они, и вправду, греки. Какие-то там корни. Но причём тут корни? Какое дело Истине до корней?
Парфианов совсем изнемог, уже почти ничего не соображал, предметы плыли вокруг него, он неожиданно вспомнил, что ел в последний раз, кажется, в субботу. Пожевал что-то, не чувствуя вкуса, головокружение прошло. Он прочёл Апокалипсис.
…Насонов ужаснулся, увидев его на пороге. Парфианов был явно болен. Молча протянул назад книгу. Не ответил на вопрос, всё ли в порядке, был как оглушённый. Спросил, как можно достать такую? Алексей изумился, но покачал головой, сказав, что к нему это протестантское издание попало случайно, привёз из Германии брат его матери. Сам Насонов из-за близорукости с трудом разбирал мелкий шрифт печати, почти нонпарель, и, пытаясь вчитаться, только морщился. То же, что прочёл, показалось собранием летописей и легенд древних иудеев, забытыми делами давно минувших дней. И чтобы такой интерес?…
Алёшка ещё раз посмотрел на сокурсника, взгляд которого блуждал, не останавливаясь, по стенам и полу, и неожиданно предложил обменять книгу — взгляд Парфианова мгновенно сфокусировался на его лице.
— Ты извини, но это редкость, сам понимаешь. Если дашь в обмен то… дореволюционное собрание Ницше, — Библия твоя.
Парфианов не верил ушам. Насонов, кажется, не шутил. На самом деле, тот в какой-то мере именно шутил, провоцируя Книжника, понимая, что тот с Ницше никогда не расстанется. Реакция Парфианова его изумила. Книжник согласился молниеносно, сказав, что завтра книги будут у Насонова, а Писание он заберёт сейчас. Хорошо?
Парфианова могли считать на факультете кем угодно, но долги он всегда отдавал и слово держал — это тоже все знали. Насонов захлопал глазами, не веря в столь удачный обмен. Парфианов — тоже. За обменными томами он съездил к отцу в тот же вечер, боясь, что Насонов передумает.
Читать дальше
![Ольга Михайлова Книжник [СИ] обложка книги](/books/406440/olga-mihajlova-knizhnik-si-cover.webp)


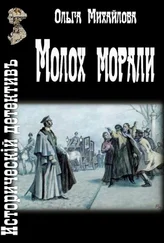






![Ольга Михайлова - На кладбище Невинных [СИ]](/books/413272/olga-mihajlova-na-kladbiche-nevinnyh-si-thumb.webp)

