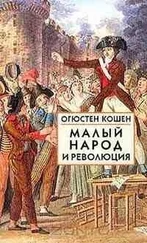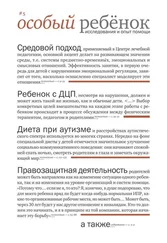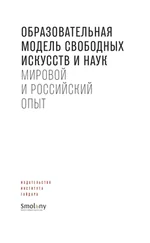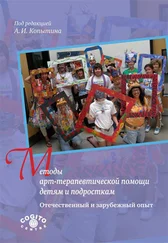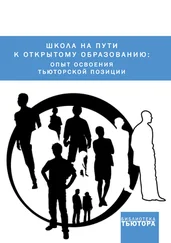Мигранян А.М. Переосмысливая консерватизм // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 114–122.
Ср. выдержки из их интервью: Мау В., Стародубровская И. Великие революции. От Кромвеля до Путина . М.: Вагриус, 2001. С. 241–246. Например Егор Гайдар: “Может быть, можно было обострить ситуацию. Но я вел линию на притушение радикальной фазы, чтобы не перевести ее в режим гражданской войны, которая казалась мне реальной угрозой” (Там же. С. 245).
Гозман Л., Эткинд А. От культа власти к власти людей // Нева. 1989. № 7. С. 156–179.
Эткинд А.М. Эрос невозможного. История психоанализа в России . СПб.: Медуза, 1993; Он же. Хлыст. Секты, литература и революция. М.: Новое литературное обозрение, 1998.
Ср.: Кустарев А. Нервные люди . М.: КМК, 2006. С. 105.
Как пишет ученик Давыдова Александр Филиппов, “его критическое отношение к Марксу сложилось, в частности, через изучение неомарксизма. Понимая ограниченность неомарксизма, он стал критически относиться и к Марксу, в той части, в которой он был его источником” (см.: В теоретической социологии Ю.Н. Давыдов был ключевой фигурой // Полит. ру. 2008. 1 августа (www.polit.ru/science/2008/08/01/filippov.html)).
Об этом см.: Озуф М. Революционный праздник . М.: Языки славянской культуры, 2003; Магун А. Указ соч .
Гройс Б. Искусство утопии . М.: Художественный журнал, 2003. С. 168–186.
Рыклин М. Террорологики . Тарту: Эйдос, 1992.
Он же. Свобода и запрет. Культура в эпоху террора . М., 2008.
См., например: Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н. Постсоветский человек и гражданское общество . М.: Московская школа политических исследований, 2008. Книга изобилует отсылками к “массовидности” российского общества и его крайне резкими оценками в сравнении с западным человеком. Как и Эткинд, авторы школы Юрия Левады обращают внимание на построение в СССР “нового человека” — хотя они и не осуждают категорически самого факта мечты о новом человеке, в данном конкретном случае продукт антропологического творчества (успешного, с их точки зрения) весьма плачевен. Интересна здесь, кстати, разница в оценках реализованности проекта советского общества, которая характеризует, соответственно, петербургскую и московскую неофициальную культуру. Первая отказывается от советского наследия, стремится выскочить из него назад или вперед. Вторая же, наоборот, акцентирует необратимость и специфику построенного советского “тоталитарного” общества — с разной, конечно, степенью симпатии к нему.
Хапаева Д. Кошмар: литература и жизнь . М.: Текст, 2010.
Типичный пример подобной дезориентации: я присутствовал на защите одного диплома, где книга Наоми Кляйн “No Logo” использовалась как апологетический учебник маркетинга, а в возникшей дискуссии ряд коллег, согласившись с дипломником, подтвердили, что критическую часть этой книги лучше в данном случае пропустить.
Эта консервативная революция отличается, конечно, от одноименного движения в Веймарской Германии. О нем см., например: Руткевич А. Прусский социализм и консервативная революция // Концепт “Революция” . СПб.: Алетейя, 2008; Михайловский А. Консервативная революция. Апология господства // Там же. Последнее было попросту более революционным и поэтому более идеологически сознательным. Кроме того, в отличие от российского случая (но подобно либеральным движениям в союзных республиках), оно было националистическим. Наверное, российский настрой, по контрасту с немецким, можно назвать “революционным консерватизмом”.
Однако и немецкая консервативная революция порождала “миксы”, как, например, “Бытие и время” Мартина Хайдеггера — не случайно любимого автора российских философов 1990-х. В “Бытии и времени” первый раздел посвящен феноменологии обыденной повседневности, а во втором вдруг оказывается, что ее условием является революционная “решимость” на подвиг, непонятно, впрочем, какой.
В этой связи полезно напомнить банальную, но верную мысль о том, что и современная ситуация в России чревата фашизмом — при росте общественного недовольства и кризисных явлениях негативность будет, скорее всего, истолкована в (ультра)консервативном духе.
В этой затянувшейся сноске нужно упомянуть также написанную с либеральных позиций работу: Вишневский А.Г. Консервативная революция в СССР // Мир России. 1996. Т. 5. № 4. С. 3–66. Вишневский считает, что консервативной была как раз большевистская революция, особенно ее сталинский этап — “модернизация” институтов была проведена при сохранении ряда традиционных социальных институтов и норм. С этой оценкой можно отчасти согласиться применительно к позднему сталинскому периоду, когда были возрождены национальные, семейные, другие традиционные ценности. И действительно, именно этот период положил, по-видимому, начало консервативной трансформации советского общества в 1970-е, когда зрелости достигло поколение, сформировавшееся в 1940-1950-е, после левой шестидесятнической интермедии. Впрочем, сталинский бонапартизм революцией сам по себе не являлся, и переносить его “достижения” на революционный процесс в целом — это уже не вполне легитимно с объективной точки зрения, хотя и понятно изнутри либеральной идеологической платформы, претендующей на монополизацию современности. С этой платформы, правда, совершенно не заметен скрытый консерватизм самого российского либерализма , заметный даже и у Вишневского, увлекающегося темой российской (негативной) исключительности и закрывающего глаза на универсальный контекст происходящих в России процессов.
Читать дальше