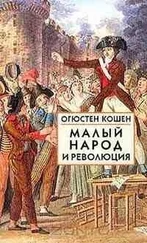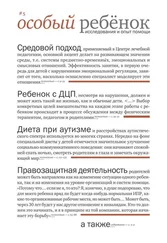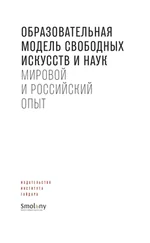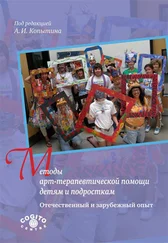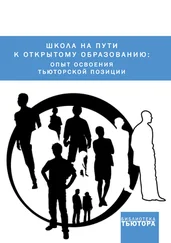Из профессиональных политических философов я назвал бы Ханну Арендт и (как ни кощунственно называть эти два имени вместе) Карла Шмитта. Оба они — редкий в XX веке случай — мыслили политику всерьез: в диалоге с двухтысячелетней традицией (далекой от того, чтобы быть преодоленной), с яростной личной вовлеченностью и со способностью глубоко проникать в логику своих оппонентов.
Ничего не стоит политическая философия, которая не задается вопросом, как политическое возможно ; как оно соотносится с истиной, в чем его внутренний исток. Для этого необходимо посмотреть на политику с универсальной, то есть мировой, точки зрения. Что такое город вообще? Пока нет ответа на этот вопрос, слишком поспешно обсуждать, надо ли в этом городе устраивать монархию или демократию, кто и какие в нем имеет права и т.д. И вот Арендт и Шмитт связывали свое видение политики с глубокими сдвигами в мышлении о мире, которые произошли в Новое время и которые до сих пор как следует не освоены политической мыслью. Для обоих политика была не простым объектом мысли, а ее условием: областью, содержащей в себе условия собственной мыслимости. Так, для Арендт политика есть сфера чистой явленности, феноменальности, которая диалектически связана с дополнительной ей частной сферой потаенности. Смысл политики есть чистая (само)деятельность, составляющая собственную цель. Для Шмитта политическое есть область категорического суждения, различения между другом и врагом. Причем это различение делается между вещами, которые сами по себе неразличимы. То есть для Шмитта суть политического — в границе, пределе. Политика ведает границами, во всей их парадоксальности и трудности для мысли.
Из живущих ныне философов политики к глубочайшим я бы отнес Жака Деррида (написавшего в 1990-е годы несколько блестящих, хотя отчасти избыточных, политико-философских трактатов) и Джорджо Агамбена. Они многое сделали для вскрытия опасной теолого-метафизической логики современной либеральной демократии. Но оба они относятся ко всей политической истории человечества несколько нигилистически, стремятся сразу и всю ее преодолеть — что несколько наивно, да и жаль. Арендт и Шмитт, напротив, призывали возродить настоящую политику. Но не надо забывать и о великих философах XX века, не занимавшихся прямо политической теорией. Огромное влияние на политическую мысль оказал психоанализ, особенно Фрейд и Лакан (крайне важна, в частности, их теория идентификации). И это влияние будет только расти.
2. А) Политическая философия, как и философия вообще, неотделима от истории. Наше настоящее нам полностью не принадлежит, и мы постоянно должны отступать назад, чтобы разобраться в нем. В то же время у нас есть право рассматривать политические понятия универсально, общезначимо — поскольку настоящее подвешивает их на грани возрождения и забвения. Объясним эту мысль подробнее.
Предмет политической философии исторически определен: сегодня мы понимаем под ним современное нам государство, но в то же время называем его словом, заимствованным у древних греков, с их очень специфическим, как многие утверждают, «негосударственным», институтом полиса. И все же мы хотели бы определить наш предмет универсально, безотносительно. Как разрешить эту проблему?
Примерно так: государство, полис, республика, империя — это не просто вещи, а вещи историчные, событийные. Они не существуют вне своего зарождения и бурного становления. То есть история — это не внешнее, а внутреннее, содержательное определение политико-философских текстов. Мы поймем сущность политики, если будем рассматривать каждую из исторических форм политики в ее зарождении, в ее разрыве с прошлым — и в моменты ее кризиса и гибели, а также в ее тенденции , направлении развития. Мы не сможем полностью абстрагироваться от собственного положения: мы дети Нового времени и видим политические образования прошлого сквозь призму современного «государства». Называть греческий полис государством — анахронизм, но анахронизм необходимый, чтобы понять его смысл, причем благодаря внешней позиции понять в чем-то лучше, чем его понимали сами греки. Такие аналогии тем более правомерны, поскольку ни полис, ни государство еще до конца не осуществились — это некоторые проекты, тенденции, несущие в себе внутренние противоречия и потому обрывающиеся, оставляющие потомкам воспоминание о незавершенном действии.
С другой стороны, собственно философская, универсальная точка зрения на политику возникает, только если мы обращаемся и к собственному государству (status) из какой-то внешней ему точки. Такую точку может предоставить нам прошлое — мы лучше поймем свое государство, если взглянем на него глазами древнего грека или средневекового рыцаря. Но внешнюю точку зрения может предоставить и предвидение: поскольку нововременное государство (с его территориальным суверенитетом) находится сейчас на грани гибели (гибели его суверенитета), то у нас особенно привилегированная перспектива взгляда на государство и на его возможные исторические формы; на то, чем оно было, что оно есть и во что оно может превратиться.
Читать дальше