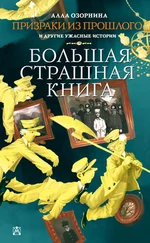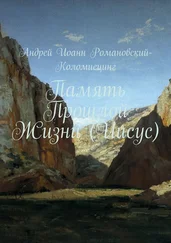Таким образом, подобно тому как теория интерсубъективности, несмотря на её детальнейшую разработку Гуссерлем, всё же справедливо была воспринята как неуклюжий довесок к чистой феноменологии и сразу потребовала своего пересмотра (Сартр, Левинас), так и анализ историчности сознания оказался движущимся чужими для него путями теории внутреннего времени-сознания. Дальнейшая перспектива тематизации историчности была продиктована необходимостью не только радикального вопроса о бытии исторического сознания, не затронутого ещё отвлекающей редукцией, но и пересмотра самого понятия «исторического сознания», специфический опыт которого никогда ещё не рассматривался в полной и самодостаточной мере, но, по большей части, служил лишь исходным фоном для методических процедур чистого сознания – как редуктивных, так и конститутивных (см. [Хайдеггер. Пролегомены к истории понятия времени, сс. 117—121]).
1. 1. 4. Хайдеггер: историчность как временящая временность Dasein
Это и было предпринято Хайдеггером в двух его наиболее крупных работах 20-х годов: «Пролегоменах к истории понятия времени» и «Бытии и времени». Центральной темой здесь выступает понятие Dasein (вот-бытие, присутствие), которое, хотя и сохраняет свои исходные феноменологические установки (интенциональность, горизонтность, региональность), но содержит их в принципиально ином виде (как бытие-в-мире) 13 13 Можно предложить с известными поправками следующие соответствия: интенциональность=бытие-в; горизонтность=мир; региональность=область мира (подручная, наличная и т.д.) (см. [Хайдеггер. Пролегомены к истории понятия времени, сс.163, 165 и слл.]).
, что, в свою очередь, позволяет радикально изменить направление феноменологического анализа: не от , но к естественной установке, скрытой от нас по большей части нерефлективной псевдо-очевидностью или научной псевдо-объективностью.
Хайдеггер постоянно вопрошает о бытии Dasein, причем так, что эта онтологическая проясненность сущностно зависима от онтической самопонятности. Иначе говоря, то ближайшее, которое «всегда есмь я сам» [там же, с. 159], становится для меня понятным не после длительной редукции и рефлексии, но сопровождает в качестве пред-понимания все мои, сколь угодно изощренные и абстрактные, акты сознания. Что бы я ни делал, о чем бы ни думал, избавиться от себя невозможно, наоборот нужно, набравшись смелости, опуститься до самых глубин самости, к «истокам» того, чт о фундирует обнаруживающиеся на поверхности акты переживания, впечатления, осознавания. Так, если переживания организуются в темпоральную последовательность моментов «теперь» и эта организация воспринимается нами как внутренняя целостность, то это не потому, что только таким образом они могут быть доступными сознанию, но потому, что присутствие (Dasein) уже имеет целостным образом свое «протяжение между рождением и смертью» [Хайдеггер. Бытие и время, с. 373], даже точнее, оно и есть «бытие-целым» «между рождением и смертью» [там же, с. 374]. Протяжение Dasein, опять таки, отлично от внутреннего сознания времени, ибо является результатом «простирания» или «экзистирования» присутствием самого себя так, что все события его бытия «присутствиеразмерно взаимосвязаны» [там же, с. 374]. Именно события рождения и смерти проясняют сказанное основополагающим образом: если для Гуссерлевого времени они полумифические, внутренне противоречивые моменты «теперь» – без ретенции один и без протенции другой, – ничего не проясняющее поэтому в понимании временности, то для Хайдеггера они, напротив, – два онтологических центра, временение которых (одного – из прошлого, другого – из будущего) только и конституирует время и жизнь присутствия. Нельзя также не отметить, что, описывая темпоральные структуры сознания, Гуссерль более всего прибегает к опыту воспоминания , то есть обращения к уже прошедшему, но репродуктивно воссоздаваемому, хотя принципиального приоритета не имело для него ни одно из темпоральных направлений. Хайдеггер в соответствии со своей генеральной задачей выявления подлинных экзистенциальных характеристик Dasein смещает центр философского внимания на способность присутствия заступать, то есть быть впереди себя и лишь таким образом собственно быть. Заступающее бытие, к которому исходно принадлежит бытие-к-смерти, есть временение присутствия, чей «первичный феномен – будущее» [там же, с. 329]. И даже как брошенное, как уже-бывшее, присутствие может повернуться, собственно вернуться, к своему прошлому только «заступая», принимая на себя возможность «в будущем так само для себя настать, чтобы вернуться в себя» [там же, с. 326].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
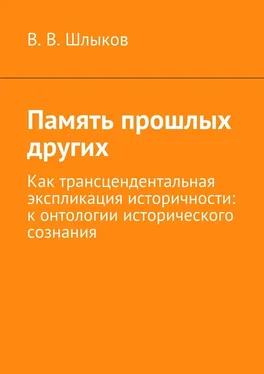




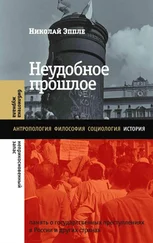
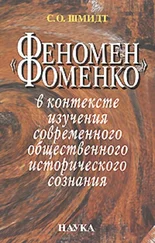
![Алла Озорнина - Призраки из прошлого и другие ужасные истории [litres]](/books/432636/alla-ozornina-prizraki-iz-proshlogo-i-drugie-uzhasny-thumb.webp)