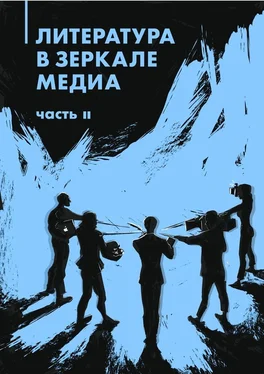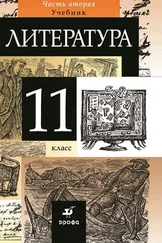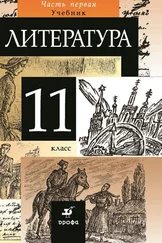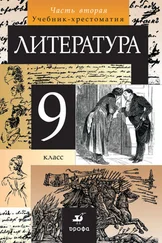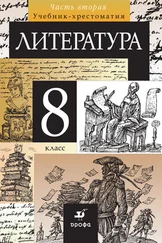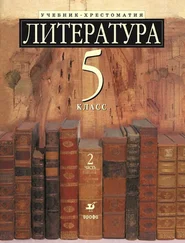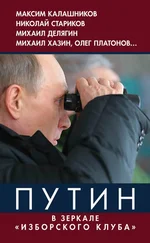Пример творчества Вертова свидетельствует о том, что киноноваторы 1920х видели в надписях-титрах нечто большее, нежели вынужденное средство повествования в условиях отсутствия живой речи. В особенности остро проблема живой речи в немом кино, палиативно представленной надписями-титрами, вставала в ту пору, когда немое кино достигло своей вершины и, готовое к новому шагу вперед, ощутило очевидный недостаток проникновения в характеры людей и жизненные обстоятельства, связанный непосредственно с немотой. Во второй половине 1920-х в нашей кинематографии, в ее теории и практике, возникали самые разные, подчас противоречащие друг другу, попытки достичь большей свободы выразительности, направленной в ту сторону, в которой находились творческие потенции литературы.
Два самых ярких новатора отечественного и мирового кино – Сергей Эйзенштейн и Всеволод Пудовкин – испытали на себе подобное эпидемии увлечение идеями и произведениями так называемого «эмоционального сценария» А. Ржешевского. Оба оказались в плену его необычной, откровенно восходящей к литературной традиции, манеры письма. Вот первые слова из пролога сценария «Очень хорошо живется», который снимал Пудовкин и потерпел сокрушительное творческое поражение: « (Из затемнения) Когда над торжественной, как будто кованой землей пробуждается рассвет… На какой-то изумительной столбовой широкой дороге… Стоял усталый, измученный пришедший человек… Замечательный человек… Ровно двенадцать лет этого человека не было дома… Человек, прошедший через подполье, каторгу, эпоху гражданской войны, все-таки пришедший в новую жизнь черт знает с какими надеждами…» 112 112 Ржешевский А. Г. Жизнь. Кино. – М.: Искусство, 1982. – С. 97.
.
В отличие от привычной в ту пору сухости сценарного письма, где скрупулезно перечислялись люди и предметы, которые должны быть запечатлены съемочной камерой в каждом отдельном кадре, Ржешевский предложил откровенно беллетризованную структуру, где реальная фактура прихотливо сочетается с элементами литературной образности. Тут есть место и метафорам, и ритму, и авторским оценкам. Характерно, что в титрах этого сценария присутствуют также цитаты из других авторов, как отечественных, так и иностранных, из прошлых лет и современных. Наряду с любимым вертовским Уолтом Уитменом 113 113 Там же. С. 97.
114 114 Там же. С. 100.
, мы встречаем Козьму Пруткова 115 115 Там же. С. 129.
, а также Бориса Пастернака 116 116 Там же. С. 106.
и Александра Безыменского 117 117 Там же. С. 140.
. Причем титры эти не просто воспроизводят литературные тексты названных авторов, заставляя зрителей гадать, кому именно принадлежат написанные на экране слова (как, скажем, это было с упомянутым выше «Куда, куда, куда вы удалились?»). Нет, тут литература подана с предельной конкретностью, воссозданные на экране тексты подкреплены именами их авторов.
Что касается сценария «Бежин луг», который Ржешевский написал для Эйзенштейна (снятый по нему фильм, как известно, тоже был признан неудачей авторов и не увидел света), то тут от первой до последней минуты киноповествования через него проходят тексты И. Тургенева. Не только его художественная проза, но и строки из писем. Впрочем, сценарист сразу же оговаривает свое право на вольное цитирование классика 118 118 Там же. С. 215.
. Этот сценарий, как и вертовские «Три песни о Ленине», создавался в 1930-е годы, когда кино обрело звук и вполне могло обходиться без надписей. Тем не менее, титров в нем очень много. Не только поясняющих происходящее, не только цитирующих классика, но и выражающих авторское отношение к происходящему на экране. В одном месте, скажем, сценарист в сердцах восклицает: «Ну чем это не Тургеневская старина?» 119 119 Там же. С. 221.
В другом – дает титр, который выглядит вызывающе в своей далекой от привычных законов кино литературности: «В общем, вы уже видите, что погода была в этот день точно такая же, как и сто лет назад» 120 120 Там же. С. 229.
.
Сценарии Ржешевского подобно некоторым произведениям театральной драматургии, предназначенным больше для чтения, нежели для постановки на сцене (так называемые «словесные драмы»), увлекали читающих их режиссеров. Они будили творческое воображение, заражали своей эмоциональностью, провоцировали на соперничество. И титры, присутствующие в текстах Ржешевского, становились органической частью словесной конструкции, больше напоминающей некие литературные жанры, нежели собственно киносценарий. Не стану здесь входить в обсуждение литературных достоинств этих текстов, запечатленного в них художественного вкуса сценариста. Гораздо важнее определить принципиальную установку автора на образность, которая, по природе своей, была откровенно ориентирована на литературу. И еще: поскольку фильм, снятый Эйзенштейном по сценарию Ржешевского, не сохранился, трудно судить о том, вставил ли режиссер предложенные драматургом титры в смонтированную ленту. Режиссер, как мы знаем, сам был превосходным литератором, а, кроме того, обладал столь яркой индивидуальностью, что ни при каких условиях не принял бы творческого решения, противоречащего его вкусам.
Читать дальше