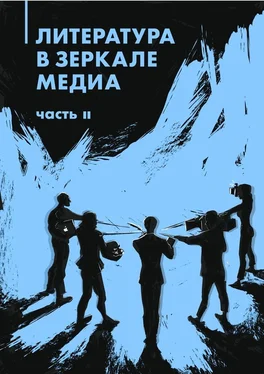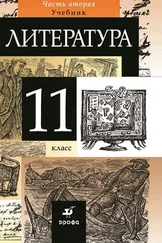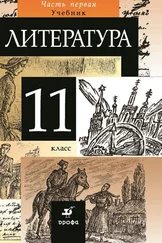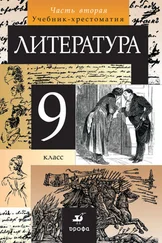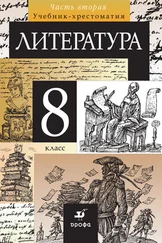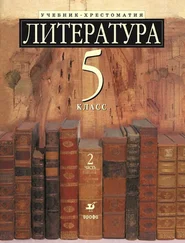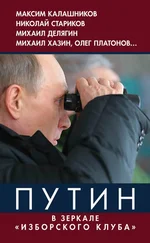Зато надписи-повторы – титры, создающие ощущение нагнетания сходных, идущих в одном направлении, мыслей и эмоций, неплохо усваивались новой российской аудиторией. Они были вполне в русле того процесса единопонимания, которое в первое послереволюционное десятилетие стало обстоятельством, сближающим леваков-новаторов в искусстве с руководителями культуры новой власти. Те и другие мечтали о единомыслии и единстве народа и его авангарда, те и другие не видели в этом единомыслии грядущих опасностей. В отличие от любого изображения (пусть даже фотографического, созданного не рукой художника, а механизмом съемочной кинокамеры) слово, в особенности слово-лозунг, слово-девиз выглядело более определенным и однозначным.
Если изображение в зависимости от разных обстоятельств допускало те или иные толкования (на этом их качестве, кстати сказать, основывалось то явление, которое в ранней отечественной теории кино получило название «эффекта Кулешова»), то титр, в особенности лаконичный по количеству слов, четкий по смыслу, занимающий, при этом, львиную долю площади экрана, к тому же изначально обладающий заложенной в него энергией и императивностью, ритмичный, как строфы из агитпоэзии, и т. д., обладал ни с чем не сравнимой однозначностью. В некоторых отечественных документальных лентах 1920-х годов, не только вертовских, яркие по литературной форме, мускулистые, написанные во весь кадр титры ничуть не уступали по выразительности изобразительному ряду, а то и превосходили его. Но, главное, они не становились второстепенным, служебным элементом повествования, оставаясь важной частью авторского высказывания.
Углубляясь в сферу возможностей написанного на экране слова, Вертов обнаруживал в нем все новые и новые ресурсы. В частности, режиссер не только широко использовал потенции титра, как части ритмической (по сути, стихотворной) структуры возвышенной авторской, речи, но и пытался (не без успеха) сопоставлять/противопоставлять слово и изображение, подчиненные единому поэтическому замыслу. Так, в эпизоде похорон Ленина («Три песни о Ленине») кадры покойного вождя сопровождаются титрами: «Ленин… А молчит… Ленин… А не движется…» И тут же идут кадры людей, пришедших проститься с Лениным. Вертов показывает их и сопровождает траурное шествие титрами: «Массы… Молчат… Массы… Движутся…» Контраст движения и неподвижности, жизни и смерти на фоне единства, порожденного молчаньем, становится основой образного хода, невозможного без участия слова-надписи.
Характерно, что в немом фильме автор говорит о молчании . Вернее, показывает его так, что зрители будто слышат его. Можно представить себе эти две монтажные фразы, лишенные титров. Кто-то из продвинутых кинозрителей и профессиональные критики, вероятнее всего, смогли бы прочесть авторскую мысль, обратить внимание на заключенный в этих фразах контраст. Но могли бы и не заметить намерения режиссера. Оно в соответствии с правилами высокого искусства не лежало на поверхности, было включено в сложнейшую образную структуру, требующую эстетической расшифровки. Киногурманы всех времен, как современники режиссера, так и его потомки, поступали и поступают подобным образом, восхищаясь творческими достижениями документалиста. Но Вертову было нужно, чтобы все зрители , а не только многоопытные профессионалы, увидели и прочувствовали заключенное в этих кадрах сопоставление/противопоставление. Он этого достиг, используя титры.
Ни закадровый текст, произнесенный профессиональным диктором (что, как говорилось выше, было уже нормой в то время), ни непосредственная авторская речь (в начале 1930-х она была уже возможна с точки зрения уровня развития тогдашней кинотехники, но почему-то игнорировалась режиссерами-документалистами), ни какие-нибудь еще творческие решения (вроде закадрового текста, исполненного за кадром театральным актером или даже сыгранного несколькими актерами), – ничто не соблазнило Вертова. Он сделал то, чего хотел. А хотел он, как истый лефовец, друг Маяковского и Родченко, ниспровергатель канонов буржуазного коммерческого искусства и созидатель нового, социалистического, ориентированного на миллионные массы трудящихся, – творить для этих масс, воплощать их энтузиазм, поднимать их до высот подлинного, новаторского искусства. Таковы были декларируемые им творческие цели.
К сожалению, кинематографическое начальство не всегда понимало и поддерживало творческие порывы Вертова, что остро и болезненно воспринималось легко ранимым документалистом 110 110 Подробнее об этом см.: Вартанов А. Пытки на любой вкус // Художник и власть. – М., 1992.
. Его постоянно преследовали не только эстетическое непонимание со стороны киночиновников, но и их мелкие административные придирки. Недаром, как пишет его биограф, даже в пору своего всеми признанного триумфа, после окончания съемок фильма «Шестая часть мира» Дзиге Вертову пришлось уйти из Совкино, руководство которого стремилось освободиться от режиссера, ставившего не художественные, а документальные фильмы, тем более, что масштабы этих фильмов требовали бóльших затрат, чем постановка рядовых художественных картин, а прокат далеко не обеспечивал их окупаемости» 111 111 Абрамов Н. П. Дзига Вертов. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. – С. 96—97.
.
Читать дальше