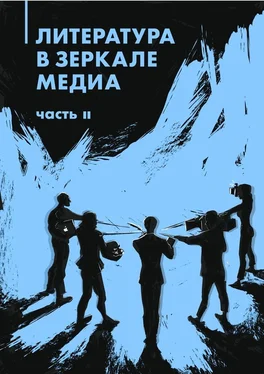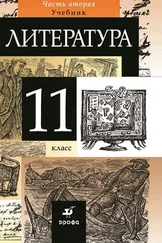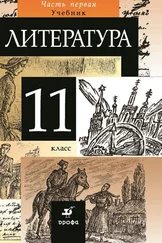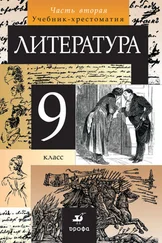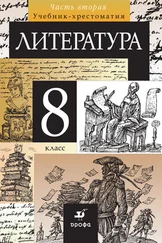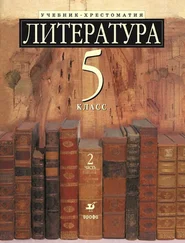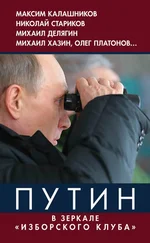Вертов ранней поры, декларируя принципы Киноков, как раз исходил из того, что запечатленная в своей неповторимой динамике жизнь не нуждается в подпорках из слов. Тем не менее, в его творчестве лишь однажды представилась возможность снять большой полнометражный фильм без титров. Это был «Человек с киноаппаратом» (1929), который сразу же и критика, и кинематографическое начальство поспешили объявить крупной неудачей автора, обвинить в формализме, трюкачестве и прочих грехах. Даже в серьезной монографии Н. П. Абрамова, посвященной Вертову, созданной на основе защищенной автором диссертации в секторе кино Института искусствознания, вышедшей в свет в 1962 году, в адрес этой ленты продолжали звучать грубые, несправедливые эпитеты. В книге исследователь укорял режиссера в том, что тот «так и не понял всей реакционной, антиреалистической сущности «Человека с киноаппаратом» 105 105 Абрамов Н. П. Дзига Вертов. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. – С. 112.
. Это «непонимание» обнаружилось в неопубликованной статье Вертова 1930-х годов, в которой он убедительно отвечал на критику ленты и объяснял суть своего замысла. Слова режиссера-новатора увидели свет лишь в пору «оттепели» 106 106 Вертов Д. О любви к живому человеку // Искусство кино, 1958, №6.
, и очень многое в них звучало аргументированным возражением хулителям фильма, по достоинству признанному сегодня одним из шедевров мирового документального кино.
В других своих произведениях, где он использовал надписи, Вертов также шел непроторенным путем. В отличие от большинства коллег, которые предпочитали ориентироваться в документальных лентах на простейшие, коммуникативные или атрибутивные свойства слова, он стремился обнаружить в титрах немало новых и непривычных качеств. Он исходил из того, что надписи на киноэкране, в особенности те, что занимают всю его поверхность, не просто сообщают зрителям дополнительные обстоятельства, необходимые им для более полного понимания происходящего в фильме. Они прочитываются аудиторией, причем, поскольку в пору появления ранних лент Вертова подавляющее большинство зрителей было не очень грамотным, то публика в зрительном зале в значительной степени читала эти титры не про себя, а вслух. А. Довженко, вспоминая о раннем советском кино, писал много позже, в середине 1950-х: «Эти надписи зрители обычно читали вслух, громко, подчас сами того не замечая. В театре стоял сложнейший гул волнения. Зрители читали титры каждый по-своему, внося в чтение свои личные интонации» 107 107 Довженко А. П. Избранное / вст. ст. Н. С. Тихонов. – М.: Искусство, 1957. – С. 588.
.
Вертов многие свои ленты строил по поэтическому принципу – как некие кинематографические стихотворения, песни или даже поэмы. Во всяком случае, он и в монтаже, и в композиции эпизодов, и в ощущении целого постоянно прослеживал возможности, открывающиеся в ритме и пафосе, особой приподнятости стиля, которые характерны для поэтической речи. Он широко использовал такой творческий прием как повтор одних и тех же кадров в монтажном куске, что задавало определенный ритм как авторскому повествованию, так и зрительскому восприятию. Характерно, что, работая над «Тремя песнями о Ленине» (1934), приуроченными к десятой годовщине смерти вождя, когда в кино уже был звук (музыку к фильму написал композитор Ю. Шапорин, а тексты монологов записал звукооператор П. Штро), Вертов отказался от возможности использовать, как это с той поры и по сей день принято в мировой кинодокументалистике, закадровый голос диктора, предпочтя применять такой, становящийся в начале 1930-х уже откровенно архаичным, прием, как надписи.
Вертов в работе над «Тремя песнями» исходил из реальных обстоятельств. В частности, он записывал тогда в своем дневнике: «Всем известно, что кинодокументального живого Ленина почти нет. Отдельные сохранившиеся кусочки многократно использованы. Задача состояла в том, чтобы найти единственно правильное решение: как без (почти без) изображения Ленина сделать о нем фильм-документ» 108 108 Три песни о Ленине / сост. Е. Свилова-Вертова, В. Фуртичев. – М.: Искусство, 1972. – С. 103.
. В этих условиях одни и те же немногие кадры с Лениным приходилось повторять в полнометражной ленте снова и снова. Они становились полноценным компонентом ритмического целого, некими строками кинопоэзии, в которой изображение рифмовалось с другим изображением, а идущие параллельно зрительному ряду надписи активно поддерживали подобную структуру, формируя четко прослеживаемый энергичный темп повествования.
Читать дальше