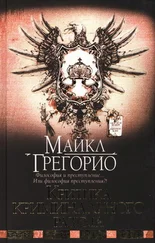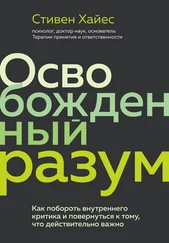Петер Слотердайк - Критика цинического разума
Здесь есть возможность читать онлайн «Петер Слотердайк - Критика цинического разума» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Екатеринбург, Год выпуска: 2001, Издательство: Изд-во Уральского университета, Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Критика цинического разума
- Автор:
- Издательство:Изд-во Уральского университета
- Жанр:
- Год:2001
- Город:Екатеринбург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Критика цинического разума: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Критика цинического разума»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Критика цинического разума — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Критика цинического разума», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
дена отождествлять умопостигаемое в этом мире с тем, что можно разумно сделать, помыслить, проверить и выразить в языке. В теории субъективного разума мир сводится к содержанию нашего действия. Субъективность полностью оборачивается практикой и покрывается ею.
Явственно выраженная нищета современной Практической Философии, которая хотела бы создать нечто основательное и надежное, прежде всего общеобязательную и строго обоснованную этику, но не сможет этого сделать ни за что в мире,— не что иное, как нищета субъективного разума вообще. Этот последний находит опору в самом себе только в той мере, в какой непрерывно продолжает двигаться вперед в стремительном активистском беге практики. Разум Нового времени сознает себя намертво привязанным к спине тигра практики. Пока этот тигр идет своим путем так, что этот путь можно предсказать и рассчитать, субъективный разум пребывает в состоянии относительного равновесия; но беда, если тигр практики впадает в один из своих очевидных кризисов или приходит в ярость от сопротивления ему либо пускается в бешеную погоню за добычей, которая кажется ему стоящей того. Тогда он быстро дает понять всаднику, что хищника такого масштаба уже не удержать под контролем с помощью одних этических транквилизаторов. Прилагающая серьезные усилия Практическая Философия поэтому непроизвольно превращается в семинар по современному управлению тиграми. Там обсуждается альтернатива: возможно ли разумно говорить с этим чудовищем либо будет лучше выйти из положения, пожертвовав системно-своевольной бестии несколько всадников, без которых, скорее, можно обойтись. При таких укрощающих беседах субъективного разума с тигром практики неизбежно вступает в игру цинизм, который, взывая к разуму, подмигивает и тем самым дает понять, что эти призывы не так уж и серьезны. К тому же общая картина ситуации, как кажется, говорит в пользу такого взгляда; там, где мышлению приходится ломать голову, в первую очередь, над проектами практики, которые обрели бурное, бесконтрольное развитие не без его собственного участия и стали автономными, субъективный разум заслуживает иронии как разум и становится подозрительным как рушащаяся субъективность. С неудержимой иронией некогда столь самоуверенное философствование Нового времени сморщивается до обманчивого рационализма, который в своих попытках дрессировать тигра практики отличается удручающей беспомощностью. В том, что философы, занятые этим гешефтом, со временем и сами становятся несколько странными, при таком положении вещей нет совершенно ничего странного. Для того чтобы наглядно представить себе курьезность философии в современном мире, нужно вспомнить один античный эпизод: какой-то греческий диа-дох велел отдать индийскому магарадже в качестве ответного дара за двух слонов двух весьма разумных философов.
В двойственном свете позднего Просвещения крепнет уверенность в том, что наша «практика», которую мы считали самым что ни на есть законнорожденным ребенком разума, в действительности представляет собой центральный миф современности. Срочно требующаяся по этой причине демифологизация практики заставляет внести радикальные коррективы в самопонимание Практической Философии. Она должна теперь ясно осознать, насколько подпала под власть мифа об активности и насколько слепо дала вовлечь себя в связь с рациональным активизмом и конструктивизмом. В этом | ослеплении практический разум не смог понять, что наивысшее по-1 нятие, определяющее поведение,— это не «действие», а «пассивное недеяние», а также то, что он достигает предела своих возможностей не тогда, когда реконструирует структуры нашего действия, а тогда, когда мысленно проникает в отношения действия и бездействия, позволяющего вещам идти своим ходом. Каждое активное действие вырисовывается на матрице пассивного; каждое действие, располагающее и распоряжающееся чем-либо, отсылает нас к стабильному массиву того, чем нельзя располагать и распоряжаться; каждое изменение должно быть соотнесено с надежной устойчивостью оставшегося в неизменности; и все, что поддается расчету и планированию, основывается на необходимо существующем фундаменте непредсказуемо спонтанного.
На этом месте начинается новейшая рефлексия, направленная на классическое «Познай самого себя!». В квазинеоклассическом движении мысли это приводит нас к той точке, в которой можно постигнуть, насколько наше производящее и рефлексирующее активное Я укоренено в пассивно-бездействующем Я, позволяющем вещам идти своим ходом,— в пассивно-бездействующем Я, которым не может располагать и распоряжаться никакое действие. Все субъективности, компетенции, активизмы и иллюзии действующего субъекта должны опираться на это более глубокое, как на фундамент всего, и насколько наше деятельное бытие принадлежит к нашей сущности, настолько же оно имеет в основе своей структуру пассивного позволения-себе-не-действовать. Знание того, что «де-лаемость» имеет ограничивающие ее структурные границы, с момента его обработки Просвещением утратило свое антипросветительское звучание и никоим образом не выливается с необходимостью в злорадные философии бессилия, с которыми с давних пор делает свой гешефт церковный консерватизм. Теперь может обнаружиться, что разум и практика не связаны исключительной связью, но и в не-| практике, в деятельности недеяния, в позволении вещам идти своим i ходом и в невмешательстве могут выразиться более высокие качества знания, чем в любом сколь угодно продуманном действии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Критика цинического разума»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Критика цинического разума» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Критика цинического разума» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.