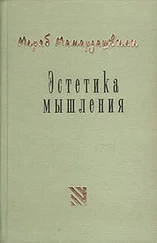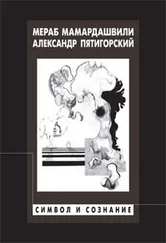В более общем виде Гегель формулирует: «Методом философии может быть лишь движущаяся в научном познании природа содержания…» [68] Гегель. Соч., т. V, стр. 4.
«поступательное шествие познания должно определяться природой вещей и самого содержания» [69] Там же, стр. 55.
. Соответственно строится и понятие формы мышления как «всеобщей абсолютной деятельности»: форма мышления фактически характеризуется как деятельность связывания расчлененного («тотального») содержания, перехода от одной стороны его к другой (осуществляемого, например, путем «отрицания отрицания»), выработки знания об одной с учетом другой («снятие») и т. п., т. е. берется как зависящая от содержания дифференцированная связь мысленных действий, содержательных преобразований.
Гегель понял, что для исследования активной деятельности мышления нужно в определенных понятиях зафиксировать ее содержание и уже в соответствии с ним выделять всеобщую форму деятельности.
Форма мышления тогда понимается как форма движения определенного содержания, определенного предмета в познании. Исследование ее предполагает фиксирование проявлений содержательных отношений в процессе познания, и наоборот, выработка понятий о содержании предполагает фиксирование соответствующих процессов отражения. Таким образом, логическое рассмотрение должно быть двойственным и решать две различные и, казалось бы, противоположные задачи: изучать и мыслимое содержание и сам процесс мышления, вырабатывая логические характеристики и предметных областей и мысленных связей. Связь этих задач есть зависимость логического понимания, фиксирующая фактическое положение дела, фактическую зависимость. Гегель, формулируя принцип содержательной логики, достаточно ярко демонстрирует в попытках осуществления этого принципа указанную двойственность логического рассмотрения. Собственно, само представление б предмете логики зиждется у Гегеля на понимании его как целого формы и содержания.
Гегель, однако, не смог правильно использовать принцип содержательного рассмотрения в качестве средства решения задачи исследования форм мышления, и прежде всего потому, что он отождествил субъективные логические связи деятельности со связями реальными, объективными (и, следовательно, не дал понятия ни тех, ни других). Поэтому то, что мы говорили об определении формы (и, соответственно, содержания) мышления у Гегеля — это выводы, которые можно сделать о фактическом гегелевском изложении с- точки зрения современных понятий, фиксирующих логические связи в их отличии от реальных, но это не есть сознательное понимание самого Гегеля. Последнее, наоборот, заключается в отождествлении логических и реальных связей.
Ведь в приводившихся выше словах Гегеля о методе мышления высказана не только зависимость метода от содержания, но и нечто другое: метод есть «объективный вид и способ вещей» [70] Гегель. Соч>, т. VI, стр. 299.
, он не есть «нечто отличное от своего предмета и содержания» [71] Гегель. Соч., т. V, стр. 34 (разрядка моя.—М. М.).
. Гегель считает, что «собственная рефлексия содержания впервые полагает и порождает само его (содержания) определение» [72] Там же, стр. 4.
и что опосредствующее движение мысли есть движение самого предмета, упрекая предшествующую логику в том, что она не рассматривала это опосредствование в качестве самопоосредствования предмета. В русле концепции тождества анализ субъективных связей деятельности мышления оказывается невозможным в силу их смешения со связями объективными. Это неизбежное следствие того, что знание как предмет, функционирующий в культуре, отождествлено с предметами действительности, к которым обращена. продуктивная деятельность мышления, постоянно трансцендирующая культуру, любые свои отложения и кристаллизации в ней. Существование такого «зазора» — условие развития познания. Элиминируя его, Гегель невольно восстанавливает фетишистскую посылку прежних метафизических учений.
В итоге, у содержательной формы пропадают предметный смысл, объективность, происхождение из реальных связей, и, следовательно, пропадает возможность изменения этой формы, замены ее другой. Эти обстоятельства лишь косвенно, благодаря фактически приводимому материалу и независимо от самой сознательной концепции, проступают в трактовке формы мышления (поскольку объективный идеализм утверждает независимость бытия от мышления отдельного субъекта). У Гегеля фактически происходит онтологизация того вида, в каком отношение формы мышления и ее содержания существует внутри мышления. Содержание в его функции внутри мышления есть момент единой связи «форма — содержание»: расчлененное содержание (структура) мысленно связывается определенными действиями мышления, т. е. формой (которая есть способ связи содержания в мышлении). Но всякая связь есть связь различного, и та же самая связь «форма — содержание», взятая со стороны предметного содержания, означает учет тех отношений, которые в самой форме не проявляются, но зато определенным образом характеризуют содержание, например, в его связи с эмпирическими объектами, из которых (и в зависимости от которых) оно абстрагируется, с чувственностью, вообще с независимыми от мышления условиями. Собственно, лишь фиксирование таких условий содержания означает фиксирование связи формы и содержания как связи различного, дает возможность объяснить форму деятельности в ее зависимости от каких-то объективных (и меняющихся) оснований. Гегель же оборвал все эти нити и различия, взяв содержание лишь со стороны одной его функции и объявив его в таком виде идеальной сущностью объекта (и лишил себя этим возможности понять как содержание, так в дальнейшем и форму).
Читать дальше