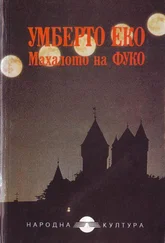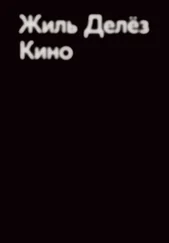Тем не менее и этого второго ответа тоже недостаточно. Если детерминация бесконечна, то почему детерминируемое, которое имеет иную форму, нежели форма детерминации, не может быть неисчерпаемым? Почему бы зримому не скрыться из виду, оставаясь вечно детерминируемым, если высказывания определяют его до бесконечности? Как воспрепятствовать бегству объекта? Не в этом ли пункте творчество Русселя в конечном счете садится на мель (не в том смысле, что оно оказывается несостоятельным, а в обыкновенном морском смысле)? "Здесь язык размещается по кругу внутри самого себя/пряча то, что он позволяет увидеть, скрывая от взгляда то, что он намеревался ему предложить, утекая с головокружительной скоростью в сторону незримой впадины, где вещи недоступны и где он исчезает в бешеной гонке за ними" [28]. Аналогичное приключение когда-то пережил Кант: когда спонтанность рассудочного понимания распространяла свою детерминацию на восприимчивость интуиции, последняя продолжала противопоставлять этой форме детерминации свою форму детерминируемого. В результате Канту пришлось обратиться к третьей инстанции, находящейся по ту сторону этих двух форм, — к инстанции сугубо "таинственной" и способной объяснить их коадаптацию в виде Истины. Это была схема воображения. Слово "загадочный" у Фуко соответствует тайне Канта, хотя фигурирует оно совершенно в ином окружении и по-иному распределяется. Но у Фуко также возникает необходимость, чтобы некая третья инстанция коадаптировала детерминируемое и детерминацию, зримое и высказываемое, восприимчивость света и спонтанность языка, действуя либо по ту, либо по эту сторону обеих форм. Именно в этом смысле Фуко говорил, что схватка предполагает определенную дистанцию, через которую противники "обмениваются угрозами и словами", и что место борьбы предполагает некое "не-место", свидетельствующее о том, что противники не принадлежат к одному и тому же пространству или же не зависят от одной и той же формы [29]. Аналогичным образом анализируя творчество Пауля Клее, Фуко пишет, что зримые образы сочетаются с письменными знаками, но в каком-то ином измерении, нежели измерение присущих им форм [30]. Так что теперь мы должны перескочить в иное измерение, нежели измерение, где находятся страта и две ее формы, в третье неформальное измерение, которое сможет объяснить и стратифицированное сочетание двух форм и первенство одной из них над другой. Так в чем же состоит это измерение, эта новая ось?
Стратегии, или Нестратифицируемое: мысль извне (власть)
Что такое Власть? Формулировка Фуко кажется весьма простой: власть — это взаимоотношения сил или, точнее, всякие взаимоотношения сил являются "властными взаимоотношениями". Постараемся прежде всего понять, что власть не является формой, например, не формой-государством, что взаимоотношения власти, в отличие от взаимоотношений знания, осуществляются не между двумя формами. Кроме того, сила никогда не бывает в единственном числе, ей уже по самой ее сути приходится находиться в отношениях с другими силами, так что всякая сила уже является отношением, то есть властью: у силы нет ни другого объекта, ни другого субъекта, кроме силы. Здесь не следует видеть возвращение к естественному праву, так как право само по себе является формой выражения, а Природа — формой видимости, и насилие представляет собой один из сопутствующих моментов или одно из следствий силы, но никак не одну из ее составляющих. Фуко стоит ближе к Ницше (да и к Марксу тоже), для которого соотношения сил значат гораздо больше, чем насилие и не могут определяться через насилие. Дело в том, что насилие воздействует на тела, объект, или определенные существа, меняя или разрушая их форму, тогда как у силы нет других объектов, кроме других сил, нет иного бытия, кроме взаимоотношений: "это действие, направленное на действие, на возможные или актуальные действия в настоящем или в будущем", это совокупность действий, направленных на возможные действия". Следовательно, можно представить список, при этом неизбежно открытый, переменных, выражающих соотношения сил или власти, конституирующие действия, направленные на другие действия: побуждать, стимулировать, отклонять, облегчать или затруднять, расширять или ограничивать, делать более или менее вероятным… [1]. Таковы категории власти. В книге "Надзирать и наказывать" разработан аналогичный, только более детальный список значений, какие на протяжении XVIII в. принимали соотношения сил: размещать в пространстве (что конкретизировалось как изолировать, разбивать на участки, расставлять в порядке, выстраивать в серию…), распределять во времени (делить время на все более малые промежутки, программировать действия, разлагать поступки на составные части…), сочетать в пространстве-времени (все способы "создания производительной силы, эффективность которой стала бы выше суммы составляющих ее элементарных сил")… Таким образом, уже упоминавшиеся нами ранее основные тезисы Фуко о власти выстраиваются по трем рубрикам: власть не является чем-то сугубо репрессивным (поскольку она "побуждает, вызывает, производит"); она осуществляется в действии прежде, чем ею овладевают (поскольку ею владеют лишь в детерминируемой форме, как, например, класс, и в детерминирующей форме, как, например. Государство); она проходит через тех, кто находится под властью не в меньшей степени, чем через властвующих (потому что она проходит через все силы, участвующие во взаимоотношениях). Словом, полное ницшеанство.
Читать дальше