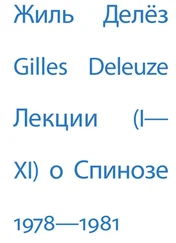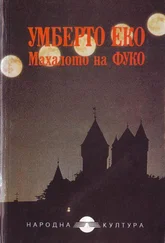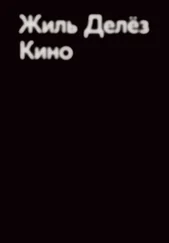Это не история ментальностей и видов поведения. Говорить и видеть, или, точнее, высказывания и видимости являются чистыми Элементами, априорными условиями, при которых в определенный момент формулируются идеи и проявляются виды поведения. Этот поиск условий и образует у Фуко нечто вроде характерного для него неокантианства. Однако тут есть и существенные отличия от Канта: условия Фуко представляют собой условия реального, а не любого возможного опыта (высказывания, к примеру, предполагают существование их определенного свода); они находятся на стороне "объекта", на стороне исторической
формации, а не на стороне некоего универсального субъекта (сама их априорность является историчной); и высказывания, и видимости являются формами внешнего [15]. Ну а наличие неокантианства объясняется здесь тем, что видимости вместе с их условиями образуют Восприимчивость, а высказывания с их условиями — Спонтанность. Спонтанность языка и восприимчивость света. Так что было бы недостаточно отождествлять восприимчивость с пассивностью, а спонтанность с активностью. Восприимчивость не означает пассивности, поскольку в том, что свет показывает, присутствует столько же действия, сколько и пристрастности. Спонтанность же означает не активность, а скорее активность "Другого", которая осуществляется по отношению к воспринимающей форме. Так было уже у Канта, у которого спонтанность тезиса "я мыслю" осуществлялась по отношению к воспринимающим существам, которые, естественно, представляли ее себе как нечто другое [16]. У Фуко спонтанность способности суждения, "Cogito", уступает место спонтанности языка (тому самому "имеется нечто языковое"), тогда как восприимчивость интуиции уступает место восприимчивости света (новая форма пространства-времени). Исходя из этого, нетрудно объяснить первенство высказывания по отношению к видимости: "Археология знания" может с ответственностью заявить об определяющей роли высказываний как дискурсивных формаций. Однако видимости, тем не менее, остаются нередуцируемыми, так как они отсылают к той форме детерминируемого, которую абсолютно невозможно свести к форме детерминации. В этом глубокое отличие Канта от Декарта: форма детерминации (я мыслю) опирается не на недетерминируемое (я существую), а на форму чисто детерминируемого (пространство-время). Проблема здесь состоит в коадаптации двух форм или двух видов условий, с различных по своей природе. Как раз эту проблему в модифицированном виде мы и находим у Фуко: взаимоотношения между двумя "есть нечто", между светом и языком, между детерминируемыми видимостями и детерминирующими высказываниями.
С самого начала один из основных тезисов Фуко состоит в разноприродности формы содержания и формы выражения, разноприродности зримого и высказываемого (хотя они и входят одна в другую и не перестают проникать друг в друга, чтобы образовать каждую страту и каждый вид знания). Возможно, именно в этом заключается тот первый аспект, где Фуко сходится с Бланшо: "говорить не значит видеть". Однако Бланшо настаивает на примате говорения как на детерминанте, в то время как Фуко, вопреки, казалось бы, столь сходным внешним чертам, настаивает на особом характере видения и нередуцируемости видимого как детерминируемого [17]. Между ними нет ни изоморфизма, ни согласия, хотя они предполагают друг друга и оба настаивают на примате высказывания. Даже в "Археологии знания", которая тоже отдает первенство высказыванию, говорится, что между высказываемым и зримым не существует ни каузальной, ни символической связи; и если у высказывания есть объект, то это непременно объект дискурсивный, который не изоморфен видимому объекту. Разумеется, об изоморфизме всегда можно грезить: будь это эпистемологическая греза, когда, например, клиника полагает тождественность структуры "между зримым и высказываемым", симптомом и знаком, показом и речью, или греза эстетическая, когда "каллиграмма" придает одну и ту же форму тексту и рисунку, лингвистическому и пластическому, [17]Ср. Бланшо, "Бесконечный диалог", BlanchotM. L'entretien infini. Gallimard: "говорить не значит видеть". Это наиболее явная формулировка Бланшо на тему, сквозную для всего его творчества. И этот текст явно предоставляет особый статус "видению" или же визуальному образу (42; то же: "Литературное пространство"; L'espace litteraire 266–277). Но этот статус, по словам самого Бланшо, остается непроясненным, поскольку он подтверждает, что говорить не значит видеть, не выдвигая, в свою очередь, тезиса о том, что видеть не означает говорить. Дело в том, что Бланшо в определенном смысле остается картезианцем: он утверждает взаимоотношения (или "не-взаимоотношения") между детерминацией и чистым недетерминированным. Фуко же в большей степени кантианец: взаимоотношения или невзаимоотношения происходят между двумя формами, между детерминацией и детерминируемым. высказыванию и образу [18]. В своем комментарии к Магритту Фуко демонстрирует, как неизбежно возрождается "узкая, бесцветная и нейтральная полоса", которая отделяет текст от образа, рисунок с изображением трубки от высказывания "это трубка", вплоть до того, что высказывание превращается в "это не является трубкой", поскольку ни рисунок, ни высказывание, ни "это" — как предполагаемая обобщенная форма — трубкой не является…: "ни на классной доске, ни над ней, рисунок трубки и текст, который должен был бы ее назвать не находят места, где бы они могли встретиться", это и есть "не-взаимоотношения" [19]. Возможно, это юмористический вариант того подхода, который Фуко ввел в своих исторических исследованиях, что и было продемонстрировано в "Истории безумия": общая больница как форма содержания или место видимости безумия возникла благодаря отнюдь не медицине, а полиции; и медицина как форма выражения, как агент порождения высказываний о "неразумии", развернула свой дискурсивный режим, свою диагностику и терапию вне предела больницы. Комментируя Фуко, Морис Бланшо подчеркивает: это различие, столкновение между неразумием и безумием. В "Надзирать и наказывать" затронута и углублена смежная тема: тюрьма как видимость преступления не возникает из уголовного права как форма выражения; она появляется на совершенно ином горизонте — "дисциплинарном", а не юридическом; уголовное право, со своей стороны, порождает высказывания о "преступности" независимо от тюрьмы, как будто оно определенным образом вынуждено было всегда говорить: это не является тюрьмой… У двух форм в археологическом смысле нет "gestaltung" ни общей формации, ни общего генезиса или генеалогии. И все же они соприкасаются, хотя и благодаря своеобразному обману: можно подумать, что тюрьма заменяет уголовного правонарушителя другим человеком и под прикрытием этой замены производит и воспроизводит преступную деятельность, тогда как право производит и воспроизводит узников [20]. Между уголовным правом и тюрьмой возникают и расторгаются альянсы, на той или иной страте или пороге образуются и разрушаются пересечения. Как же тогда объяснить то, что и для Фуко, и для Бланшо не-взаимоотношения являются взаимоотношениями, и даже более глубокими взаимоотношениями?
Читать дальше