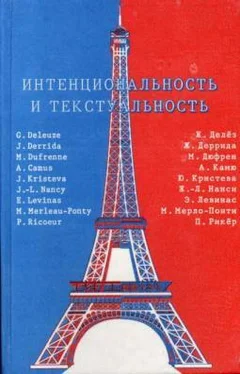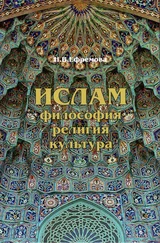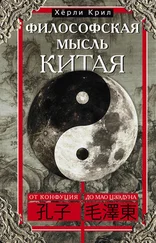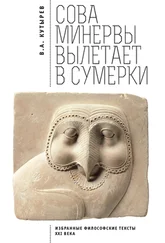Здесь мы получаем подлинное руководство, с которым связаны затруднения, указанные в первой части статьи; оно поможет распознать преобразование методологии в рамках феноменологической редукции. Второй раздел Картезианских размышлений явным образом демонстрирует скрытый сдвиг от акта воздержания к акту отрицания.
Воздерживаясь ( mich enthalten ) от полагания мира в качестве абсолютного, я овладеваю им как миром-воспринимаемым-в-жизни-рефлексии; другими словами, я схватываю его как феномен. Гуссерль может вполне обоснованно сказать, что «если мир не существует для меня и не допускается мной сознающим cogito, он не представляет для меня ровным счетом ничего». Однако заметим, что Гуссерль догматически полагает, что мир «находит во мне и получает от меня свой смысл и бытийный статус» 11 . Ингарден в свое время рассматривал подобные высказывания, которые, как он говорил, предвосхищают результат конституирования, «поскольку эти высказывания содержат метафизические предпосылки, предпосылки, которые можно уподобить категориальным тезисам, имеющим дело с тем, что само по себе не является элементом трансцендентальной субъективности» 12 .
Наиболее общая причина, обусловливающая точку зрения Гуссерля, связана с тем, что он смешивает проблемы сущего с наивным полаганием частных способов бытия в естественной установке. Подобное наивное полагание основано как раз на пропуске связи частных способов бытия с нами самими и возникает из Anmassung (предпосылки) чувственности, которая затрагивается Кантом. К тому же у Гуссерля невозможно обнаружить то переплетение значений объективности, которое мы находим у Канта, а именно, объективности, конституированной «в» нас, и объективности, «обосновывающей» феномен. Вот почему тот мир, который в отношении своего смысла «для» меня (и «во» мне, в интенциональном смысле «во»), является также в отношении своего Seinsgeltung, «бытия-статуса», миром «от» меня. Помимо этого, epoche представляет собой такую меру бытия, которая, в свою очередь, не может быть измерена с помощью чего-либо еще. Epoche невозможно постигнуть с помощью какой-либо абсолютной позиции, которая, подобно Богу Платона, задавала бы способность видения субъекту и устанавливала бы некий абсолют, определяющий видение; оно может быть только радикализировано.
В данном случае я попытаюсь показать, каким образом метафизика, имплицитная объяснению, претендующему на не-метафизичность, совершенно определенно содержится в описаниях самого Гуссерля. Очевидно, что ссылкой на подобную метафизику нельзя обосновать его неосознанное уважение к «вещам в себе»; феноменология была бы полностью разрушена подобным упреком. Однако с помощью этого можно объяснить то, почему одним конститутивным областям субъективной жизни уделялось больше внимания, чем другим.
(1) Начнем с того, что наиболее серьезные различия между Кантом и Гуссерлем связаны с пониманием функции разума. У Канта разум — это само Denken, рефлектирующее над «смыслом» категорий вне их эмпирического «употребления». Мы знаем, что подобная рефлексия является критикой трансцендентальной иллюзии и в то же самое время оправданием «идей» разума. Гуссерль же совершенно иным способом использует слово «разум», в целом связывая его со словами «действительность» и «истина». Любое установление подлинного, на которое претендует субъективный процесс, чтобы указать нечто действительное, является проблемой разума (Идеи 1, часть IV). Подобное установление подлинного, характеризующее действительную способность, используется в качестве меры для каждого типа сигнификации (восприятия как такового, воображения, суждения, акта воли, ощущения как такового) с помощью соответствующего типа изначальной очевидности.
Проблема разума вовсе не ориентирована на исследование особого вида интенции без созерцания, некоторого интендирования без соответствующего акта интуиции, придающего феноменам нечто, стоящее за ними 13 . Совсем наоборот, разум имеет целью удостоверить подлинность самих феноменов на основе своей собственной полноты.
Отсюда феноменология разума связывается с понятием изначальной очевидности, независимо от того, какого типа эта очевидность, — перцептуальная, категориальная или какая-либо еще. Таким образом, становится ясно, что феноменология развивает критику, заменяющую критику Канта. Фактически феноменология осуществляет нечто большее, нежели просто описание в процессе созерцания; она устанавливает меру каждой претензии, используя наблюдение. Ее действие больше не является только описанием; оно — корректирует. Каждая пустая сигнификация (например, символическая, с утраченным правилом образования) отсылает к присутствию действительного в том виде, в котором оно является в своей Leiblichkeit, во плоти и крови. Разум — это движение, отсылающее от «модифицированного» к «подлинному».
Читать дальше