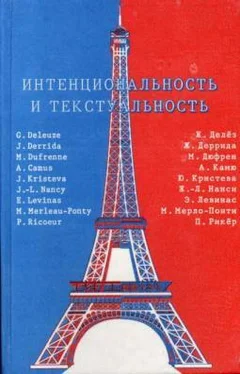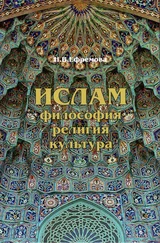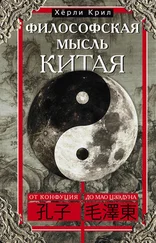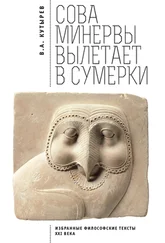Если мы намереваемся дойти до следствий феноменологии Gemut, мы должны, как неоднократно делал Кант, указать на то, что рассмотрение существования сознания сводится к ноэтическому анализу операции, производимой актом суждения. Если ноэматический анализ приходит к своей кульминации в «Постулатах эмпирического мышления», которые устанавливают координацию между существованием вещей и их восприимчивостью, ноэматический анализ достигает высшей точки в самообосновании Я-существую. Однако эта тема представлена в Критике случайными фрагментами. Фактически здесь феноменология сталкивается с самым значительным сопротивлением, идущим из скрытых глубин кантианства. Целостная эпистемологическая концепция объективности имеет тенденцию к тому, чтобы представить «Я-мыслю» функцией
объективности и навязать альтернативу, на которую мы ссылались выше. Либо я «сознаю», что «Я-мыслю», но не «знаю» этого, либо я «знаю» Эго, но оно есть феномен природы. Именно поэтому феноменологическая дескрипция у Канта только намеревается открыть конкретного субъекта, который не занимает прочного места в его системе. Тем не менее там, где Кант, исследуя схематизм, движется к изначальному времени, присутствующему в работе суждения, он движется в направлении этого субъекта. Так же он приближается к этому субъекту там, где определяет существование вещей как коррелятивное моему собственному существованию. По этому поводу он замечает: «Я сознаю свое существование как определенное во времени… Значит, определение моего существования во времени возможно только благодаря существованию действительных вещей, которые я воспринимаю как находящиеся вне меня» (В 275–276; см. также примечание в предисловии второго издания В XXXIX).
Значительная трудность связана с тематизацией такого существования, которое не является категориальным существованием или, иначе говоря, структурой субъективности. Подобная проблема впервые появляется в § 25 второго издания (существование, которое не является феноменом). В примечании, добавленном здесь Кантом (В 158), ставится задача схватывания существования в акте Я-мыслю, обосновывающем подобное существование, а следовательно, ставится задача дотемпорального созерцания самого себя, продуцирующего мое существование на уровне психологических феноменов (В 155). Трудность здесь действительно значительна, особенно если рассматривать Я-мыслю только как то, что прослеживается в восприятии многообразия, предопределенного логически. Из всех наиболее известных отрывков на ум приходит только критика «рациональной психологии», где «Я-мыслю» рассматривается как эмпирическое высказывание, включающее высказывание «Я-существую». Кант пытается решить возникшую проблему в рамках своей эпистемологии, связывая существование с «необоснованным эмпирическим созерцанием», которое предшествует любой организации опыта. Это позволяет ему сказать: «Существование еще не есть категория» (В 423).
Не является ли экстракатегориальное существование той самой субъективностью, без которой «Я-мыслю» не заслуживает названия первой личности? Не связано ли оно с тем изначальным временем, которое «Аналитика» вычленяет из того представления времени, которое имеет место в «Эстетике»? Иначе говоря, вероятно, это — существование Gemut, души, которое не заключается в Я-мыслю как в принципе, обуславливающем возможность категорий, и не содержится в самих феноменах, с которыми имеет дело психология; оно в большей мере относится к душе, выявленной в трансцендентальном переживании с помощью феноменологической редукции.
[II] Критика как установление границ
Предшествующий анализ зависел от временных ограничений. Мы основывались на допущении, что у Гуссерля реально используемый метод можно отличить от философской интерпретации, которые он постоянно смешивал, особенно в своих опубликованных работах. Мы использовали это различие для того, чтобы обнаружить в Критике имплицитную феноменологию. Следовательно, сходство Канта и Гуссерля достигалось ценой применения узаконенной, но ненадежной абстракции к общей направленности их работ.
Однако Критика представляет собой нечто совершенно отличное от феноменологии, и это связано не только с ее эпистемологическими предпочтениями, но и с ее онтологическими намерениями. Именно в этом отношении Критика — нечто большее, чем простое исследование «внутренней структуры» знания; она является также исследованием границ познания. Укорененность знания о феноменах в мышлении о бытии, которое само не может быть достоянием знания, задает Кантовской Критике собственно онтологическое измерение. Разрушить напряжение между знанием и мышлением — значит разрушить само кантианство.
Читать дальше