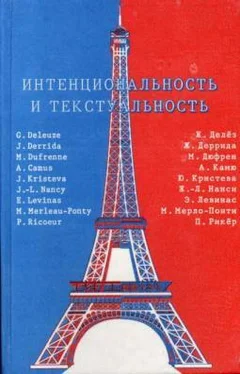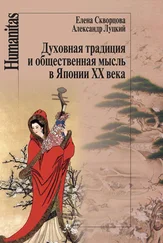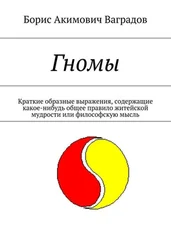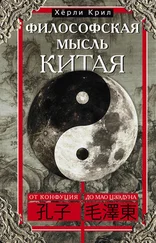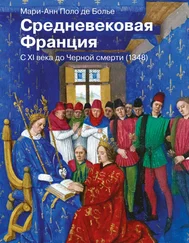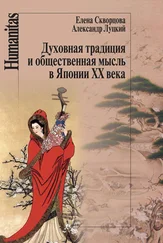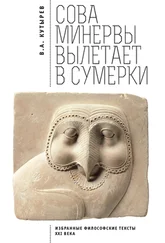Первостепенное значение имеет понятие об использовании категорий. Кант явным образом отличает его от смысла самих категорий (А 147; А 248). Это различие проясняет то, что Кант понимает под притязаниями чувственности. Как раз это он и имеет в виду, когда показывает тщетность подобных претензий, выявляя значение игры трансцендентальной иллюзии и указывая на заблуждения (паралогизм и антиномии). Не к разуму относятся неудачи, представленные в «Трансцендентальной диалектике»; в большей степени они связаны с чувственностью, если стремиться применить ее к вещам-самим-по-себе 9 .
Если мы все-таки сохраняем уверенность в своей способности использовать Кантовское учение в качестве руководства при интерпретации имплицитной философии Гуссерля, нам необходимо убедиться в том, что Кант действительно достиг цели в согласовании функции ограничения и идеализма своей теории объективности в том виде, в каком она развивается в «Трансцендентальной дедукции». Не сводится ли объективность к синтезу, который апперцепция навязывает чувственному многообразию посредством категорий? Если подобное понимание объективности, рассматриваемой как действие трансцендентальной субъективности, действительно составляет ядро «Трансцендентальной дедукции», тогда каким образом оно может быть связано с иным пониманием объекта как объекта в-себе? Иногда кажется, что слово «объект» может обозначать только «целостность моих представлений», а интеллектуальные структуры опыта предназначены для того, чтобы отделить мои представления и противопоставить их мне как нечто мне прямо противоположное (данный случай иллюстрирует пример с домом, который прослеживается, схватывается и опознается) (А 190–191). В этом смысле объект — «явление в противоположность схватываемым представлениям» (А 189). Будет правильным сказать, что в процессе объективации представлений представление действительно совпадает со своим объектом, когда «объект отличается от них» (А 191). Но разве не Гуссерль указал на структуру объекта в сознании, как на нечто прямо противоположное сознанию?
Однако Кант не сомневается, что объект, который полностью располагается вне, является вещью в себе. Стремление проникнуть за феномены приводит к неэмпирическому объекту, трансцендентному X. Вот почему у Канта в равной мере встречаются отрывки, где объективность проявляется в различии между моими представлениями и феноменами и где феномены — это «представления, в свою очередь имеющие свой предмет» (А 109). Трансцендентальный предмет есть то, «что может дать всем нашим эмпирическим понятиям вообще отношение к предмету, то есть объективную реальность» (А 109).
Таким образом, реистическая функция интенциональности (объект Х как «коррелятивный единству апперцепций») пронизывает идеалистическую функцию объективации моих представлений. Каким образом это возможно? Ключ к решению проблемы нужно искать в различии — фундаментальном для Канта, но совершенно неизвестном Гуссерлю — между интенцией и созерцанием. Кант радикально отличает одно от другого, отношение к чему-либо и созерцание чего-либо. Объект = Х — является интенцией без созерцания. Это определяет различия мышления и знания и устанавливает как согласованность, так и напряженность между ними.
Более того, Кант не просто говорит о рядоположенных интерпретациях объективности, он устанавливает их взаимодействие, возможное потому, что отношение к объекту = Х является интенцией без созерцания, и эта интенция отсылает к объективности как единству многообразного. С этой точки зрения, отношение к объекту суть ничто иное, как «необходимое единство сознания и, стало быть, синтеза многообразного» 10 . Таким образом, объективность, как результат объективации, и объективность, первичная к данной объективации, указывают друг на друга (А 250–251). Трансцендентальная идеальность объекта отсылает к реализму вещи-в-себе, а она, в свою очередь, возвращает нас обратно. Именно об этом говорится в предисловии ко второму изданию, в котором устанавливаются взаимные импликации обусловленного и необусловленного (В XX).
Подобная структура, характеризующая кантианство, не имеет параллелей в Гуссерлевской феноменологии. Так же, как и неокантианцы, Гуссерль утрачивает онтологическое измерение феноменов и тем самым возможность рассмотрения границ и оснований феноменальной сферы. Вот почему феноменология не является «критикой»; то есть она не репрезентирует границы своего собственного поля применения.
Читать дальше