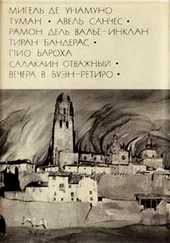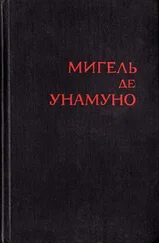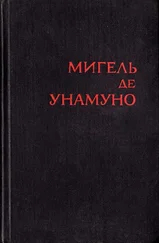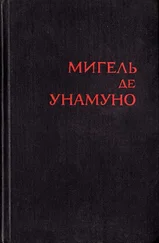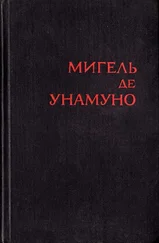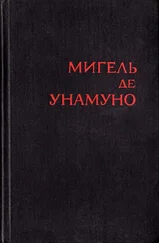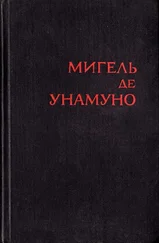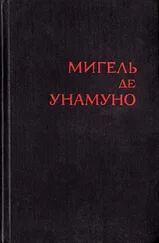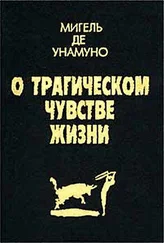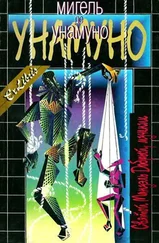Но здесь мы сталкиваемся с тем, что нет понятий более противоречивых в самих себе и более двусмысленных в употреблении, чем понятия индивидуализма и коммунизма, так же как понятия анархизма и социализма. С помощью этих понятий совершенно невозможно что-либо прояснить. Одни только темные спириты могут верить в то, что, пользуясь этими понятиями, можно достигнуть ясного понимания вещей. Чего только не натворила бы с помощью этих понятий могучая агоническая диалектика Святого Павла!
Поскольку индивидуальное является самым что ни на есть универсальным, постольку на этой почве невозможно никакое однозначное суждение.
Анархисты, если только они хотят выжить, вынуждены основать Государство. А коммунисты вынуждены найти себе опору в индивидуальной свободе.
Самые радикальные индивидуалисты образуют сообщество. Отшельники объединяются и основывают монастырь, то есть общину монахов, monachos , одиночек, которые, будучи одиночками, должны тем не менее оказывать поддержку друг другу. И погребать своих мертвецов. И в конце концов они вынуждены делать историю, раз они не делают детей.
Только монах-пустынник действительно приближается к идеалу индивидуалистической жизни. Один испанский ученый, который в шестидесятилетнем возрасте выучился кататься на велосипеде, сказал мне, что езда на велосипеде - это самый индивидуалисгический способ передвижения. А я ему возразил: «Нет, дон Хосе, самый индивидуалистический способ передвижения - это идти в полном одиночестве, пешком, босиком и по бездорожью». Жить в одиночестве, нагим и в пустыне - вот истинный индивидуализм.
Отец Гиацинт, о котором мы еще будем говорить, уже после того, как порвал с Римской Католической Церковью, писал, что англосаксонская нация это «нация высоконравственной и прочной семьи, нация свободной и деятельной личности, нация индивидуалистического христианства...». Тезис о том, что протестантское христианство, в особенности кальвинизм, - это индивидуалистическое христианство, высказывался неоднократно и его любят повторять. Однако индивидуалистическое христианство возможно только в безбрачии; христианство в семье это уже не чистое христианство, это уже компромисс с миром. Чтобы следовать за Христом, надо оставить отца, мать, братьев, жену и детей. И если, таким образом, становится невозможным продолжение человеческого рода, то тем хуже для него!
Но вселенский монастырь невозможен; невозможен монастырь, который вместил бы в себя всех. Поэтому существует два класса христиан: христиане в миру, христиане, принадлежащие веку - «век», saecula , это значит поколение, - христиане, которые живут в гражданском обществе и производят на свет детей для неба; и чистые христиане, живущие в соответствии с монастырским уставом, христиане монастыря, monachos . Первые умножают плоть, а с нею и первородный грех; вторые возделывают монашеский дух. Но можно стремиться приблизить мир к монастырю, век к монастырскому уставу, и можно вопреки миру сохранять монашеский дух.
И те, и другие, постольку они действительно религиозны, живут во внутреннем противоречии, в агонии. Монах, который хранит девство, не расходует семя плоти, верует в свое воскресение из мертвых и позволяет называть себя отцом - или, если это монахиня, то матушкой , - в то же самое время мечтает о бессмертии души, о продолжении своей жизни в истории.
Святой Франциск Ассизский верил в то, что люди еще долго будут говорить о нем. Хотя Святой Франциск и не был собственно монахом, monachus , в традиционном значении этого слова, то есть человеком, удалившимся от мира в монастырь, тем не менее он все же был святым братом, fratello , братцем. А с другой стороны, христианин, принадлежащий гражданскому обществу, гражданин, отец семейства, живя в истории, все время спрашивает себя, не рискует ли он уже тем самым своим спасением. И если трагично положение мирского человека, который заточил себя - или же был заточен - в монастырь, то еще более трагично положение монаха по духу, затворника, одиночки, который вынужден жить в миру.
Для Римской Апостольской Католической Церкви девство является чем-то самим по себе безусловно более совершенным, чем брак. И хотя из этого последнего сделали таинство, тем не менее брак является как бы уступкой миру, истории. Но женихи и невесты Господни живут в постоянной, томительной тревоге, проистекающей из инстинктивной жажды отцовства и материнства. Не случайно в одном из женских монастырей существует неистовый культ младенца Иисуса, Бого-младенца.
Читать дальше