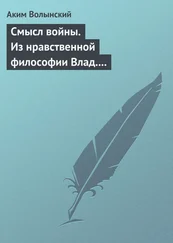Разумеется, немецкий философ не мог принять такого понимания «перерождения» человека (по Кириллову — в «бога», по Ницше — в «сверхчеловека»). Он усматривает в этой трактовке «перерождения» лишь один из вариантов толкования «символа воскресения» [35]. И, процитировав заключительные слова из этого кирилловского рассуждения: «В воскресении не будут родить, а будут как ангелы божий» [36], — добавляет уже от себя (однако пользуясь выделенным им ранее выражением самого Достоевского): «…то есть цель достигнута: к чему дети?» [37]. Зафиксировав таким образом тождество идеи «вечной гармонии», «достигнутой цели» и евангельского представления о воскресении, Ницше бросает фразу: «В ребенке выражается неудовлетворенность) женщины» [38], давая этим понять, что женщина, желающая иметь детей, против такой идеи. Она в силу своего природного предназначения к деторождению неизбежно будет против «вечной гармонии», имевшей у Кириллова характер нравственно-религиозного постулата. Если продолжить эту мысль в том направлении, которое сообщил ей Ницше, то она должна, по-видимому, означать следующее. Женщина как воплощение начала становления — вечной неудовлетворенности, является «естественной противницей» всяких абсолютов, что согласно философу уже само по себе делает их сомнительными.
Ницше не ограничивается этой критикой кирилловского постулата «вечной гармонии», в свете которого «физическое перерождение» человека было истолковано на манер евангельского представления о воскресении. Он видит «непоследовательность» Кириллова уже в самом факте принятия этого постулата наряду с отрицанием «прежнего бога». «Что вызывает у меня самую большую досаду? — восклицает Ницше, резюмируя свое впечатление от кирилловской «идеи», взятой в целом. — Видеть, что никто не имеет больше мужества додумать до конца (свою мысль. — Ю. Д.)» [39]. Если Кириллов выступает против «прежнего бога» (и, как заключает отсюда Ницше, несмотря на кирилловские оговорки, стало быть, он «атеист»), то для него не должно было бы существовать не только евангельского воскресения, но и «вечной гармонии», и — более того — ничего неизменного и абсолютного. Все должно погрузиться в сплошной поток «становления», понятого даже не по Гераклиту, у которого над этим потоком возвышается «мера», а по Кратилу, для которого поток становления оказывается тождественным полному хаосу.
Кириллов, с точки зрения немецкого философа, не додумал до конца свою нигилистически-богоборческую идею. Дойдя до мысли о самоубийстве как доказательстве небытия бога, он умирает с сознанием достигнутой цели, вечной гармонии, которая должна наступить после его самоуничтожения и благодаря этому самоуничтожению. В конце концов Кириллов предпочел, пользуясь ницшеанской терминологией, иллюзию «ставшего» реальности бесконечного «становления»; ложь о конечном нравственном смысле всего существующего — его реальной бессмысленности и абсурдности. Потому даже в самоубийстве Кириллов хотел видеть некий высший смысл, тогда как в действительности оно означает лишь чистое «нет-действие», достоинство которого, по Ницше, заключается лишь в том, что здесь теоретическое «нет» переходит наконец в практическое. Иначе говоря, нигилизм, «поднимается» на новую ступень: акт отрицания бытия стал «деловым».
«Если люди обладают последовательностью в теле, то должны были бы обладать последовательностью также и в голове, — досадует Ницше по поводу противоречивости кирилловской идеи. — Но их мешанина…» [40] «Последовательность в голове», соответствующая «последовательности в теле», если рассуждать в духе Ницше, предполагает, что человеческая жизнь абсолютно тождественна жизни человеческого тела. Поэтому Кириллов не имел никакого права связывать с «концом» собственного тела нечто большее, чем абсолютный «конец» своей жизни, свидетельствующий о ее бессмысленности точно так же, как и о бессмысленности всего живого, обреченного на то, чтобы умереть. В кирилловской тоске по «вечной гармонии», получившей характер навязчивой идеи, галлюцинации, немецкий философ не хочет видеть бунта против этого абсурда, не только возвышающего человека над своей собственной «конечностью» и, следовательно, делающего его нетождественным «конечности» своего собственного тела, но и оправданного как выражение нежелания человека жить, не утверждая высшего смысла своей жизни, как животное.
То, что Ницше называет «мешаниной», поскольку это выходит за пределы «последовательности», навязываемой человеку ограниченностью его телесно-физиологической природы, на самом деле имеет гораздо более серьезные источники и не может быть сведено к простой неспособности Достоевского «додумать до конца» мысль своего персонажа. В действительности мы сталкиваемся здесь с феноменом, уходящим своими корнями в онтологические основания человеческой природы, хотя и отмечаемым на уровне человеческого сознания, а потому мыслителям ницшеанского типа кажущимся чем-то «иллюзорным». Имеется в виду тот факт, с которым столкнулся и Достоевский в своих размышлениях над историческими судьбами народов, что человечество не может существовать, не утверждая высшего — то есть не совпадающего с простым «физическим» присутствием на земле — смысла собственного существования.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу