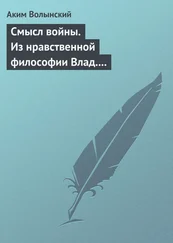Так Достоевский позволяет нам во всей глубине осмыслить роковую связь между «теоретическим» нигилизмом и его кошмарными «практическими приложениями» в XX веке.
В свете этого опыта на передний план при итоговой оценке кирилловского «феномена» выступают уже не столько теоретические рассуждения Кириллова о богоборческом смысле самоубийства, а сама действительность, реальность, «фактичность» этого противоестественного акта человеческого самоуничтожения, как она представлена в «Бесах». Речь идет о сцене кирилловского самоубийства, последовавшей после теоретической «преамбулы», развернутой Кирилловым перед П. Верховенским. Заметим, кстати, что в Ницшевом конспекте мы не найдем никаких следов размышления над этой сценой, никаких попыток как-то «скорректировать» кирилловскую «философскую теорию» самоубийства «весомой, грубой, зримой» реальностью самого факта самоуничтожения человека, с потрясающей силой внутренней достоверности воссозданного Достоевским.
В момент самоубийства Кириллов оказался гораздо менее своевольным, чем это представлялось ему самому в его теоретических рассуждениях, в «резонерстве» на тему «богоборческого» и одновременно истинно «божественного» характера его, Кириллова, предстоящего самоуничтожения, — факт, который с самого начала бросает тень глубочайшего сомнения на «высший смысл» этого противочеловеческого деяния. Читателя «Бесов» не оставляет впечатление, что в момент, когда неизбежность самоуничтожения открылась Кириллову уже не как «логическая», но как «практическая», он вдруг' как бы утратил волю и действовал уже не собственной, а чуждой ему волей, движимый некой роковой силой, столь же абсурдной, сколь и внешней его внутреннему импульсу.
Акт («божественного») своеволия оказался некоторой «равнодействующей» сил, из которых ни одна не может быть приписана свободному волеизъявлению Кириллова. Здесь и общее «сумеречное состояние» его, неожиданно прерываемое какими-то судорожно-импульсивными «рывками», тут же переходящими в «ступор» («…Кириллов… стоял ужасно странно — неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться» [47];…фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его (П. Верховенского. — Ю. Д.), даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом — точно окаменевшая или восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространстве») [48].
Здесь и цинично-назойливое «давление» П. Верховенского, перемежаемое понукающими окриками, перешедшими затем в прямое «рукоприкладство» («…он (П. Верховенский. — Ю. Д.) вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова») [49]. Все это вместе создает картину «заталкивания» человека в самоубийство. Здесь и смутное сознание Кирилловым каких-то непонятно почему, когда, где и зачем взятых на себя «обязательств», лишающее его способности возразить на «понукания» П. Верховенского, прервать творящийся абсурд (хотя «натура» самоубийцы-невольника уже взбунтовалась против него, разумеется, сделав это столь же абсурдным образом, так как нравственно-интеллектуальная сфера уже была «отключена»). Смутное сознание, которое выплеснулось в «страшное» и произнесенное раз десять: «Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас…» [50]
Словом, «божественное» своеволие, которое хотел «заявить» Кириллов актом своего самоуничтожения, оказалось иллюзорным. Действительностью же, до поры до времени прикрываемой этой иллюзией, имевшей форму логически продуманной «идеи», была не только безнравственность, но и абсурдность самоубийства, против которого бунтовало все существо человека. В этом бунте кирилловской «натуры» против самоубийства становилось совершенно очевидным «Не убий!» (в том числе и самого себя), обращенное к человеку. Эта заповедь, звучащая в человеке как «голос свыше», есть одновременно и выражение внутренней потребности его собственной «натуры». Так что от нарушения этой заповеди «плохо» становится не кому-то, полагающему границу его свободному волеизъявлению, но прежде всего ему самому. «Богоборчество» здесь сомнительно, а вот «человекоборчество» несомненно. Кириллов хотел сделать вызов богу (нравственному абсолюту; всему, что возвышается над партикулярной человеческой волей), но убил самого себя. Кириллов хотел принести себя в жертву во имя человечества, которое в результате этого акта должно было осознать себя «богочеловечеством», но в действительности пожертвовал собою для того, чтобы покрыть преступления самого гнусного и низменного существа из всех, с кем ему приходилось сталкиваться, — П. Верховенского. Своеволие, которое должно было утвердить себя в противоположность нравственным абсолютам, обернулось не просто утратой человеком своей собственной воли, а превращением его в бессмысленное орудие гнусно и низменно направленной чужой воли. Этим было доказано лишь то, что человеческое действие не может быть «абсолютно своевольным». Оно либо направляется тем, что человек считает высшим в самом себе, возвышающимся над его единичной волей, либо оказывается во власти «низших стихий», используемых в античеловеческих целях.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу