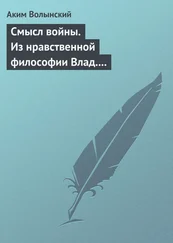Теоретически Кириллов покончил с собою в тот момент, когда решил, что над его волей не возвышаются никакие нравственные абсолюты, открыв для нее возможности любого действия, в том числе и самоубийственного. А главное, он лишил нравственных скреп свое заболевшее сознание, в котором болезнь души была усугублена болезнью духа. Но практически, как оказалось, Кириллов не мог осуществить свое «логическое самоубийство», поскольку все его существо, вся его «натура» протестовала против этой бессовестной логики.
В ситуации самоубийства, уже совершенного в помыслах, однако оказавшегося немыслимым на практике, несмотря на все попытки Кириллова искусственно стимулировать себя, возбудив в себе метафизическую ярость против бытия, которое, оказывается, так трудно самовольно покинуть (показать язык «всему миру»: «Стой! я хочу (нарисовать. — Ю. Д.) сверху рожу с высунутым языком» [51], обругать все, остающееся в живых: «Я все хочу и еще изругать хочу, тоном, тоном!» [52], и дальше совсем уж параноидально: «Я хочу изругать… Я хочу изругать…» [53]), — в этой тупиковой ситуации у Кириллова в какой-то момент должен был наступить срыв: паралич воли. Этот «вакуум» воли, которым обернулась метафизика своеволия, и был заполнен человеконенавистнической волей П. Верховенского, ставшего, таким образом, соучастником действительного самоубийства, которое и самоубийством оказалось лишь наполовину; в остальном оно более походило на убийство, на казнь.
Здесь и обнаруживается наконец истинная причина кирилловской «непоследовательности», вызвавшая у Ницше раздражение, удивительно близкое к тому, которое возникло у П. Верховенского («Свинство в том, что он в бога верует пуще, чем поп… Ни за что не застрелится!») [54]. Причина основного противоречия Кириллова заключалась в том, что на страже нравственного абсолюта, отвергнутого им («логически», «теоретически», «философски») во имя жизни, стояла… сама эта жизнь, поддержанная его, Кириллова, неистовой жаждой жить. Отсюда и возникло это утверждение: «Жизнь есть, а смерти нет совсем» [55].
Жизнелюбие Кириллова властным языком его «натуры» говорило то же самое, что и оспариваемый им нравственный абсолют: «Не убий!» Эта заповедь стояла на страже его жизни точно так же, как и на страже жизни всего человечества, всякой жизни вообще. Вступив в противоборство с нею, этот «теоретический самоубийца» вступил в вопиющее противоречие с тем самым принципом, который он хотел утвердить. Это принцип вечности, абсолютности, нравственной оправданности жизни как целого, к которому наряду с любым другим живым существом причастен и человек — единственный, кто способен осознать благо дарованного ему бытия, постичь его высший смысл.
В отличие от того, что пытался доказать Ницше, Достоевский не рассматривает моральный абсолют как нечто, находящееся «по ту сторону» жизни. Напротив, мораль согласно автору «Бесов» стоит на страже жизни. Не случайно высший моральный принцип гласит: «Не убий!» А тот, кто попирает этот принцип, выступает не только против морали, но и против самой жизни, как бы он ни пытался доказать совершенно противоположное. В этом и заключалась трагедия Кириллова, который так и не понял, что, воюя против нравственного абсолюта, он воюет против жизни и, следовательно, против самого себя.
Кирилловское сознание было разорвано двумя несовместимыми принципами. С одной стороны, это был принцип жизни, которую Кириллов самым непосредственным образом воспринимал и переживал как нечто абсолютное, неуничтожимое и вечное, дарованное каждому человеку, любому живому существу в качестве высшего блага. «Когда мне было десять лет, — говорит Кириллов Ставрогину, — я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист — зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал» [56]. С другой же стороны, это был надуманный, вымученный принцип «своеволия», которое не желает подчиняться ничему, что не было бы «положено» им самим, его собственным произволением. А поскольку бытие, сам факт присутствия человека в мире — это то, что никак не зависит от человеческого произвола, постольку индивиду, которым овладела идея «своеволия», ничего не остается, кроме как вступить в негативное отношение к бытию.
Иначе говоря, убедившись в собственной неспособности «возвыситься» над бытием положительно, «своевольный человек» пытается сделать то же самое отрицательным способом — путем отказа от бытия, то есть самоубийства. Однако человек тем самым не столько отказывает бытию в себе, своей персоне, своем собственном присутствии (ведь бытие-то как-нибудь обойдется и без него), сколько себе самому в бытии (поскольку ему-то уж не обойтись без того блага, которое было однажды даровано ему бытием).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу