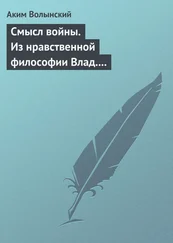Но что может остановить человека, одержимого маниакальной идеей: убить бога (нравственный абсолют) в себе и в то же время себя самого как «нового бога», когда эта идея переплетается с искренним желанием «пострадать за человечество»! Как распутать этот клубок, в котором благородство оказалось нерасторжимо связано с болезненной манией величия, а искренность — с сознательным отказом от высших этических, принципов! Ведь, как прекрасно показывает Достоевский, суть душевной болезни — в данном случае «болезни сознания» — заключается в том, что это заболевшее сознание принимает за здоровье именно то, что в нем является самым больным. В случае Кириллова это то, что привело к полному «потрясению сознания», — утрата устойчивых опор, скреп, ориентиров, то есть все тех же абсолютов.
Вместо того чтобы, собрав все оставшиеся душевные силы, восстановить пошатнувшийся нравственный принцип, Кириллов бросает их на то, чтобы «убить принцип», и… убивает самого себя. Вызов «прежнему богу» и самоутверждение «нового бога» совершается лишь в рамках больного сознания. В действительности же происходит обыкновенное самоубийство, к тому же «утилизуемое» Петром Верховенским для своих низких целей — факт небезразличный для итоговой этической оценки кирилловского самоубийства.
Любопытно, что именно кульминационный момент кирилловского горячечного бреда, непосредственно предшествовавшего самоубийству, бреда, имевшего, однако, характер «системы», давно уже выношенной и продуманной в деталях, также привлек внимание Ницше. И, что особенно показательно, привлек как раз в аспекте философско-теоретическом. Очевидно, это произошло потому, что философ ощутил здесь нечто, соприкасающееся с некоторыми из его собственных размышлений о природе «сверхчеловека».
Вот это рассуждение Кириллова. «Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем же поколении переродит физически; ибо в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего бога никак. Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего — Своеволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна (эта фраза, как и предыдущая, отсутствует в Ницшевом конспекте. — Ю. Д.). Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою» [30] (у Ницше: «мою новую и страшную свободу»).
Что касается мысли Кириллова о «новой страшной свободе», открывшейся ему как свобода «своевольного» самоуничтожения, то она не могла вызвать у Ницше никаких возражений. Он и сам неоднократно давал понять читателю, что свобода, открывшаяся нигилисту перед лицом «мертвого бога», страшна и ужасна, хотя не придавал ей прямого самоубийственного смысла, как это сделал автор «Бесов». Потому он сообщал словам «страшный», «ужасный», некоторый эстетический оттенок, оттенок чего-то такого, что не имеет к говорящему непосредственного отношения. Например, такого, какое это действительно имело для Кириллова, платившего за свое «своеволие» собственной жизнью.
Кирилловская мысль о том, что самоубийство (как первый акт самоутверждения человека в качестве бога) только и спасет всех людей и в следующем же поколении «переродит физически», должна была первоначально привлечь немецкого философа, а затем оттолкнуть его. Привлечь она должна была внешним созвучием с существенно важным тезисом, сформулированным уже в «Предисловии Заратустры (О сверхчеловеке и последнем человеке)» к книге Ницше «Так говорил Заратустра»: «Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и стать жертвою: но приносит себя в жертву земле, чтобы она стала некогда землей сверхчеловека» [31]. Человек же рассматривается при этом как «нечто, что должно превозмочь» [32].
Правда, автор «Заратустры» достаточно осторожен в расшифровке того, что означает это «превозмочь». «Существуют разные пути и способы преодоления: ищи их сам!» [33] — взывает он к «человеку». Но тем больший интерес должна была бы вызвать у философа кирилловская идея «физического перерождения» человека, осознавшего себя «богом», то есть, в переводе на ницшеанский язык, «сверхчеловеком».
Ища ответ на вопрос о том, что же означает это «физическое перерождение» человека, о котором Кириллов говорит с П. Верховенским, немецкий философ вспоминает другой разговор, где затрагивается та же тема, — разговор Кириллова с Шатовым. Ницше находит это место в «Бесах», где впервые возникает интересующая его тема, и целиком воспроизводит в своем конспекте. «Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не го что любите, о — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?» [34]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу