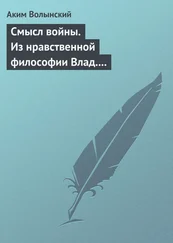Иначе говоря, в той мере, в какой Кириллов признает другого человека именно как человека (а не как простую границу или, наоборот, механический инструмент его «своеволия»), он признает и нравственный абсолют как нечто возвышающееся над его волей и так или иначе ее определяющее. В этом смысле он действительно непоследовательный, половинчатый нигилист, очень непохожий на тех, на кого возлагал все свои надежды Ницше.
Кириллов не только просто считается с фактом существования других людей, признавая их в качестве таковых. «Идея» Кириллова состоит в том, что, признав в «другом» такого же человека, как и он, этот невольник богоборческой мысли автоматически должен признать и то, что другой — такой же «бог», как и он, и все дело в том, чтобы убедить его в этом. Доказать же это другому Кириллов может только таким же образом, каким он хотел бы доказать это самому себе: путем все того же самоубийства. Навязчивая идея самоубийства, возникающая в сознании Кириллова как результат невыносимой антиномии между выводом о «ложности» бога (как нравственного абсолюта) и ощущением невозможности жить с сознанием его «несуществования» (в мире, лишенном абсолютов), осмысляется им самим как идея необходимости принести себя на алтарь общего дела, пожертвовать собой ради счастья «всех». «Если сознаешь (что сам бог стал. — Ю. Д.) — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет? Это я убью себя сам непременно, чтобы начать и доказать» [27].
Характерно, что, выписав первую фразу этого отрывка из кирилловского рассуждения, Ницше опускает две следующие. Его не интересует возникающий здесь мотив «страдания за человечество», которое хочет принять на себя Кириллов. Философ проходит мимо этой темы, делающей проблему кирилловского нигилизма и (нигилистического) атеизма менее однозначной, чем это допускает ницшеанская концепция.
В желании «пострадать за человечество» самом по себе еще нет ничего нигилистического. Аналогичный мотив, возникший в народном сознании с помощью христианства, изначально был одушевлен высоким нравственным пафосом. Нет здесь и того специфического атеизма, который Ницше считает «началом нигилизма». Нет потому, что Кириллов не мыслит себе «безбожного», то есть абсолютно безнравственного существования (отсюда кирилловское: бог умер, да здравствует бог! «Прежний бог» оказался ложным — да здравствует бог истинный: человеко-бог!). Нет и потому, что свою собственную акцию он явно мыслит по образу и подобию «крестного страдания» Иисуса, подражая ему здесь, тем более что он для Кириллова уже не богочечовек, но человеко-бог: «Этот человек был высший на вези земле, составлял то, для чего ей жить» [28]. Эту кирилловскую мысль Ницше, ненавидевший в христианстве прежде всего и главным образом моральную символику, связанную с образом Христа, разумеется, не зафиксировал в своем конспекте.
Этот морально-этический комплекс, сохранившийся в сознании Кириллова вопреки укоренившемуся в нем нигилистическому устремлению, и предопределил его выбор между убийством и самоубийством. «Своеволие», которое непременно должно было выразиться в попрании высшей заповеди «прежнего бога» — требования «Не убий!», обращенного к людям, было направлено Кирилловым против него самого, а не против «другого».
Причем в этом выборе в пользу самоубийства (именно в выборе в ситуации альтернативы: «убийство другого или самоубийство?», а не в самом акте самоуничтожения) заключается не только известный этический смысл, но и определенная теоретическая последовательность. Ведь если каждый человек — «бог», то «божественен» он в той же мере, как и любой другой человек (а кирилловская исходная посылка именно такова). Акт «своеволия» (каковым согласно кирилловской «идее» доказывается одновременно и несуществование «прежнего бога», и «божественность» человека) не может выйти за пределы одного человека, одного «бога», одной абсолютной единицы и не может, теоретически выражаясь, уже «по определению». Это значит, что акт «божественного своеволия» человека (в его кирилловском понимании) не может быть ничем иным, кроме как самоубийством. Человек, провозглашенный «богом», в принципе не может убить другого человека. Бог может убить лишь сам себя.
Патологический и рациональный моменты метафизики Кириллова
Однако самоубийством «новый бог» (человеко-бог) может доказать не столько «божественность» собственного «своеволия» (этот вопрос остается пока еще открытым), сколько отсутствие у него по крайней мере одного атрибута «прежнего бога» — бессмертия. Получается, что «божественная» заповедь «Не убий!» нужна вовсе не богу, а человеку, к которому и обращена. Она необходима ему, потому что он смертен, а следовательно, может убить и другого, и самого себя. Она будет нужна ему до тех пор, пока он останется смертным: в этом смысле она и абсолютна. Кириллов, покончив с собой, парадоксальным образом доказал лишь справедливость этого морального абсолюта, возвышающегося над человеческим «своеволием», лишний раз продемонстрировав, что нарушение этого принципа обращается против самого нарушителя. Этот принцип нужен ему, а не богу, так как жизнь дана человеку не навечно. «Вызов», конечно же, Кириллов сделал «прежнему богу», но убил-то он в действительности себя самого, «русского дворянина-семинариста и гражданина цивилизованного мира» [29].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу