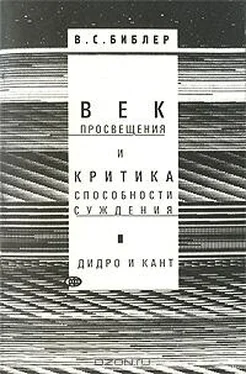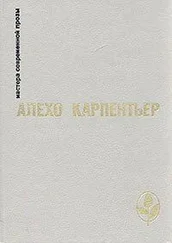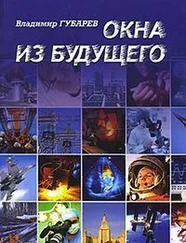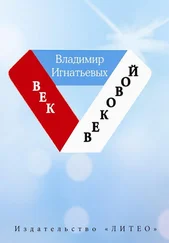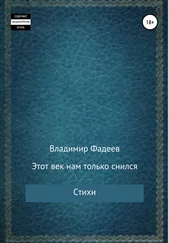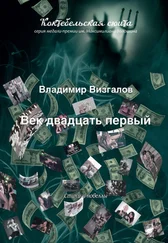По Канту, эта пограничная сфера — эстетическая в своей определенности и внеэстетическая в своей потенции — есть сфера возвышенного.
В возвышенном снова возрождаются понятия, нравственные стремления, даже простые человеческие желания, но они возрождаются не в наличной своей форме, не как нечто застывшее, извне навязанное человеку, н как нечто формирующееся, только еще возможное, как продукт и цель человеческой активности.
<���Аналитика возвышенного> составляет особый большой раздел кантовской <���Критики…>, но сейчас я коснусь лишь одной стороны дела — связ между идеей возвышенного и идеей Просвещения.
Возвышенное относится Кантом к сфере эстетики, но сама эстетичность возвышенного — в отличие от красоты — в том, что здесь, в этой точке, просвечивает, рефлектирует нечто иное, запредельное для <���эстетических суждений>, но — отраженное в них.
Идея возвышенного зачинается безграничностью природы; челове стремится <���объять необъятное>, воспроизвести бесконечное в цельном, замкнутом образе и… не может это совершить. В зазоре между безграничностью, бесформенностью воспроизводимого и законченностью образа, ег замкнутостью, и возникает раздражающее и провоцирующее ощущени (понятие?) возвышенного.
И снова — образ звездного неба.
На твердом и ограниченном небесном своде, в четких звездных точка мы видим — и не можем видеть — бесконечную и безграничную вселенную.
Возвышенного нет, если нет безграничности, но есть только тверды свод; возвышенного нет, если нет стремления увидеть (понять?) безграничное — в этом твердом, ограниченном своде человеческих небес.
Идея возвышенного — это идея (или образ) актуальной бесконечности.
<���…Если вид звездного неба называют возвышенньш, то в основе суждения о нем не должны лежать понятия о мирах, населенных разумными существами; и на светлые точки, которыми, как мы видим, наполнено пространство над нами, [должно смотреть] не как на солнца, движущиеся по… орбитам, а только так, … как на широкий свод, который обнимает все; только при таком представлении мы и должны определять возвышенны характер, который чистое эстетическое суждение приписывает этом предмету> [49] Там же. С. 279.
.
И вот тут‑то начинается самое главное.
И глаз, и мысль стремятся все (!) "схватить> и затем <���соединить* бесконечное количество в едином понятии (образе).
<���Со схватыванием затруднений нет, оно может идти до бесконечности; но с соединением дело тем труднее, чем дальше продвигается схватывании и быстро достигает своего максимума… Соединение никогда не бывает полным…> [50]. 50 Там же. С. 258–259.
Дальше идет великолепный фрагмент:
<���Это обстоятельство может в достаточной мере объяснить и то смущение или некоторого рода растерянность, которые, как рассказывают, охватывают посетителя в церкви св. Петра в Риме, когда он первый раз входи туда: здесь налицо чувство несоответствия между его воображением и идее целого, которую следует изобразить; причем воображение достигает своего максимума и, стремясь расширить его, сосредоточивается на сстоиЧ себе, что и доставляет ему умиленное удовольствие> [51] Там же. С. 259 (курсив мой. — В. Б.).
.
Бесконечное, безграничное не вмещается ни в какой внешний синтез (единый, цельный образ), но стоит созерцающему сосредоточиться в себе, и сразу же безграничное <���умещается> в точке, в зернышке самого человеческого стремления вообразить (воплотить в образ), понять (поймать) бесконечное.
Опять преодоление. Радость от двойного движения — воображении расширяется до бесконечности и… обратным ходом (бесформенность невоображаема!) свертывается в точке неопределенного разумного понятия.
<���Вся сила воображения все же не соразмерна идеям разума> [52] Там же. С. 263
.
Возвышенное означает границу эстетического уже не с понятием рассудка, но с "идеей разума".
Не с нормой морали, но с формообразованием нравственных импульсов. С безграничностью (потенциальной) человеческой индивидуальности, личности.
Так же как у Дидро, так и у Канта бесконечное, бесформенное (природы) в двух <���формах> провоцирует <���сосредоточение человека в себе> — форме динамически бесконечной <���силы>, в форме математически бесконечной <���величины>.
Но не каждый способен пережить испытание возвышенным.
Этот искус опять‑таки выносит только просвещенный, культурный человек, т. е. человек <���широкого образа мыслей>, готовый изменить весь стату своего мышления, воспринять иную культуру.
Читать дальше