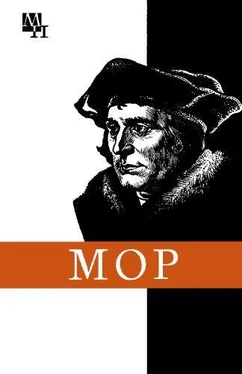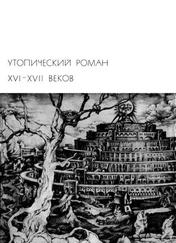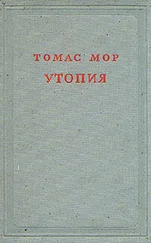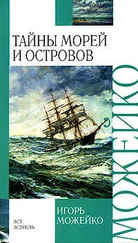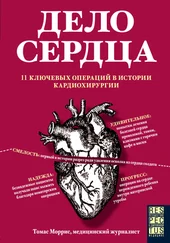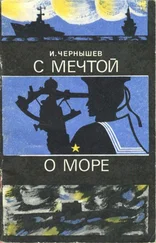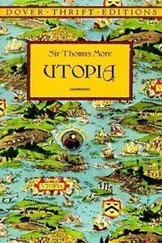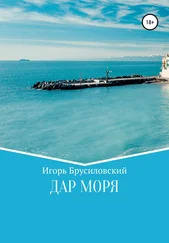Как гуманист, Мор не мог примириться с презрительным отношением лютеран к разуму. В «Диалоге о ересях» и «Опровержении ответа Тиндела», так же как и в «Ответе Лютеру», он выступает против попыток реформаторов третировать разум, противопоставить ему веру с ее откровением. Разум и откровение в вопросах веры, утверждает Мор, не противоречат друг другу. Разум не враг, а слуга веры, ибо по самой своей природе он обращен к поиску истины. Однако Мор все же признает, что не всякая истина доступна разуму. Так, за пределами разума находятся тайны божественного промысла. И тем не менее разум остается могучим источником познания, составляющим величайшее счастье бытия (8, Kg. V). Итак, в трактовке разума Мор обнаруживает двойственный подход. С одной стороны, касаясь вопроса о соотношении философии и теологии, разума и веры, он склоняется к традиционной мысли, что философия должна быть служанкой теологии, разум — слугой веры. И в этом все еще сказывается влияние господствовавших в средние века представлений. С другой стороны, весьма примечательно, что и в теологической полемике с реформаторами Мор продолжает защищать кредо гуманизма, отстаивая авторитет разума. Познание истины при помощи разума он рассматривает как одно из величайших наслаждений, доступных человеку. Даже в трактовке собственно религиозных проблем Мор апеллирует к авторитету разума.
Правильное понимание темных и спорных текстов Писания, по мнению Мора, возможно лишь тогда, когда с католической верой сочетается «свет естественного разума». Разум помогает найти истину путем исследования и сопоставления спорных текстов Писания с другими, а также с комментариями отцов церкви и с основными положениями католического вероучения. Мор полностью разделяет надежды Колета и Эразма на возрождение и «возрастание» благочестия среди христиан в результате научного изучения и пропаганды св. Писания. При этом цель гуманистической критики и исследования текстов Писания была отнюдь не в том, чтобы, апеллируя к разуму, подвергать сомнению авторитет Библии или подрывать авторитет церкви. Цель гуманистических штудий заключалась в критике «библейского суеверия», т. е. слепого, догматического восприятия Писания, при котором написанное слово превозносится выше человеческого разума. По убеждению гуманистов, их просветительская деятельность должна способствовать оздоровлению, нравственному возрождению церкви. Иная цель была у реформаторов, которые полагали, что папистская церковь безнадежно испорчена: ее нельзя лечить, а нужно уничтожить и заменить другой, истинной, реформированной на основе св. Писания. Разум и все иные, «внешние» по отношению к Библии авторитеты, по их мнению, не могут приниматься в расчет при создании этой новой церкви.
В основе просветительской деятельности гуманистов, критиковавших пороки духовенства, и сочинений реформаторов — два различных отношения к церкви. Однако теперь для нас ясно, что и те и другие объективно содействовали одному и тому же историческому процессу — ниспровержению духовной диктатуры церкви. И гуманисты и реформаторы способствовали ослаблению влияния господствующей идеологии феодального общества — католицизма. И в этом смысле можно констатировать, что гуманизм подготовил Реформацию. В дальнейшем же пути гуманизма как более умеренного, просветительского движения, заведомо избегавшего обращения к широким массам и рассчитывавшего лишь на поддержку «просвещенных» государей и духовенства, расходятся с путями Реформации как более радикальной оппозиции феодализму, апеллировавшей к революционным настроениям буржуазных и предпролетарских элементов феодального общества. И если такие гуманисты, как Эразм, Мор и их сторонники в различных странах Европы, рассматривали Реформацию лишь в негативном плане, как «подстрекательство к мятежу», то реформаторы в свою очередь склонны были упрекать гуманистов в непоследовательности и даже предательстве. Именно так Лютер расценивал позицию Эразма, не желавшего его поддерживать, а Тиндел — позицию Мора. Как справедливо отмечал Р. Пайнеас, «Тинделу казалось просто невероятным, чтобы человек, защищавший Эразма от нападок теологов и написавший эпиграммы против духовенства, позднее мог искренне порицать сочинения, схожие с теми, которые он сам когда-то написал… Тинделу не приходило в голову, что ранние сочинения Мора никогда не преследовали той цели, к которой стремился реформатор, т. е. ниспровержения порочной церкви. Поэтому он открыто обвинял Мора в неискренности по отношению к защищаемой им католической церкви» (113, 116).
Читать дальше