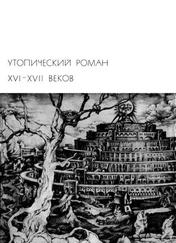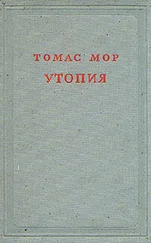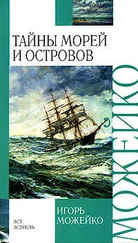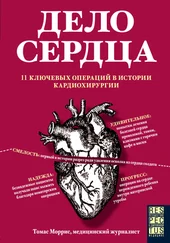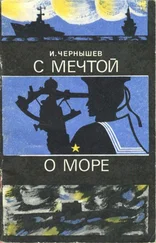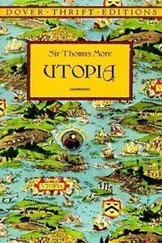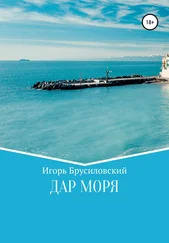Гуманистам было свойственно критическое отношение не только к средневековой схоластике, но и к сочинениям отцов церкви, к философскому наследию античности. Из идейного наследия своих предшественников они брали только то, что представлялось им полезным для дела реформы общества. Даже тогда, когда Колет, Мор и Эразм ратуют за восстановление в обществе христианской справедливости и призывают жить по Евангелию, они вкладывают в это свой, особый смысл, допуская отступление от средневековой христианской традиции, санкционировавшей существующие социальные отношения и призывавшей праведников уйти от мира. Для гуманистов проповедь ухода от мира была неприемлема.
Критический подход проявляется и в гуманистической оценке этических концепций эпикурейцев и стоиков. Для Мора и его друзей-гуманистов, в частности, были совершенно чужды такие черты стоической философии, как приверженность к созерцательной жизни и равнодушие к мирским заботам. Подтверждение тому мы находим и в «Утопии», и в сочинениях Эразма — «Похвала Глупости», «Жалоба мира», «Кинжал христианского воина», «Наставление христианскому государю» и др. Мор и Эразм, как и их наставник Колет, отдавали явное предпочтение активной гражданской жизни перед созерцательной жизнью мудрецов-отшельников. Мудрость ради нее самой, не приносящая пользы обществу, — такая мудрость в понимании гуманиста сродни глупости.
Таким образом, полемика гуманистов против схоластики, отрицание значения схоластической диалектики и противопоставление ей риторики были одушевлены гуманистической программой реформы. Путь к исправлению социальной несправедливости гуманисты видели прежде всего в изменении традиционной схоластической системы образования и воспитания.
Существенная особенность мировоззрения Мора — гражданственность, провозглашение идеала служения общему благу. Таков, в частности, смысл «Утопии». Равенство прав всех на материальные блага сочетается с обязанностью каждого трудиться ради всего общества. Подобная постановка вопроса полностью исключала социально-индифферентное благочестие ради личного спасения. Однако в полном противоречии с гуманистическим идеалом справедливого общества был предлагаемый ими метод достижения этой цели. Ибо носителями предполагаемой реформы, по мысли гуманистов, должны были стать наиболее просвещенные представители правящей элиты. Ведь именно к сильным мира сего в первую очередь взывает гуманистическая риторика. Отчасти этим объясняется, что и «Похвала Глупости» и «Утопия» были написаны по-латыни и не предназначались для простого народа. В этом противоречии сказывался неизбежный разрыв между радикальной критикой общественных пороков, гуманистическим идеалом и реальной политической позицией мыслителей, отнюдь не предполагавших апеллировать к народным массам. Социально-политическая ограниченность гуманизма как ранней формы буржуазного просвещения проявилась здесь со всей определенностью.
Гуманисты исходили из сложившейся социально-политической структуры феодального общества и отнюдь не предполагали радикальных мер, ломающих традиционные порядки. Тем не менее вся их просветительская деятельность, направленная против господствующей феодальной системы, — критика церкви, схоластики, сословной иерархии, социальных контрастов, осуждение корыстолюбия господствующих классов, — вся эта деятельность в целом подрывала духовную монополию церкви и феодальные устои.
Глава IV. Литература и политика
 так, гуманист XVI в. — это прежде всего филолог, литератор (literatus), погруженный в латинские и греческие филологические штудии. Противопоставляя средневековой схоластической системе образования новые, гуманистические принципы воспитания, Мор и Эразм широко пропагандировали разностороннее светское знание. Значительная роль в гуманистической реформе образования отводилась античной светской литературе, особенно греческой. Отрицательное отношение Мора и Эразма к университетской схоластической науке, преклонение перед античной литературой было свидетельством их свободомыслия, нетрадиционного, критического типа мышления. Весьма показательно в этом смысле восторженное отношение Мора и Эразма к величайшему вольнодумцу и сатирику древности Лукиану, которого они оба переводили с греческого языка и всячески популяризировали среди людей своего круга.
так, гуманист XVI в. — это прежде всего филолог, литератор (literatus), погруженный в латинские и греческие филологические штудии. Противопоставляя средневековой схоластической системе образования новые, гуманистические принципы воспитания, Мор и Эразм широко пропагандировали разностороннее светское знание. Значительная роль в гуманистической реформе образования отводилась античной светской литературе, особенно греческой. Отрицательное отношение Мора и Эразма к университетской схоластической науке, преклонение перед античной литературой было свидетельством их свободомыслия, нетрадиционного, критического типа мышления. Весьма показательно в этом смысле восторженное отношение Мора и Эразма к величайшему вольнодумцу и сатирику древности Лукиану, которого они оба переводили с греческого языка и всячески популяризировали среди людей своего круга.
Читать дальше
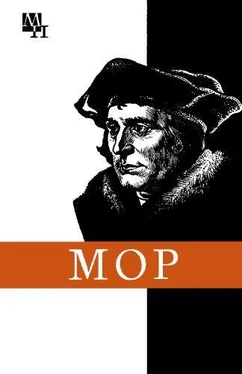
 так, гуманист XVI в. — это прежде всего филолог, литератор (literatus), погруженный в латинские и греческие филологические штудии. Противопоставляя средневековой схоластической системе образования новые, гуманистические принципы воспитания, Мор и Эразм широко пропагандировали разностороннее светское знание. Значительная роль в гуманистической реформе образования отводилась античной светской литературе, особенно греческой. Отрицательное отношение Мора и Эразма к университетской схоластической науке, преклонение перед античной литературой было свидетельством их свободомыслия, нетрадиционного, критического типа мышления. Весьма показательно в этом смысле восторженное отношение Мора и Эразма к величайшему вольнодумцу и сатирику древности Лукиану, которого они оба переводили с греческого языка и всячески популяризировали среди людей своего круга.
так, гуманист XVI в. — это прежде всего филолог, литератор (literatus), погруженный в латинские и греческие филологические штудии. Противопоставляя средневековой схоластической системе образования новые, гуманистические принципы воспитания, Мор и Эразм широко пропагандировали разностороннее светское знание. Значительная роль в гуманистической реформе образования отводилась античной светской литературе, особенно греческой. Отрицательное отношение Мора и Эразма к университетской схоластической науке, преклонение перед античной литературой было свидетельством их свободомыслия, нетрадиционного, критического типа мышления. Весьма показательно в этом смысле восторженное отношение Мора и Эразма к величайшему вольнодумцу и сатирику древности Лукиану, которого они оба переводили с греческого языка и всячески популяризировали среди людей своего круга.