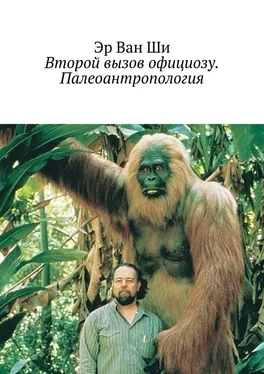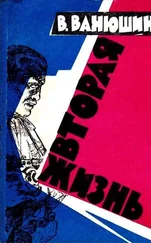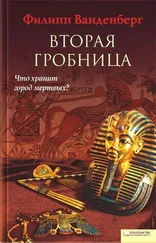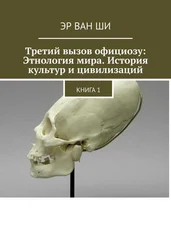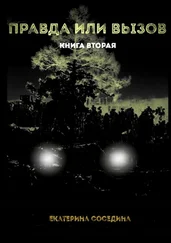В конце концов, нельзя утверждать наверняка того, что мы не в состоянии проверить и подтвердить, тем более теории, основанные на чрезвычайно зыбкой почве. Иногда маленький штрих способен испортить всё произведение. Так, например, т. н. Homo habilis (пре-зинджантроп), предок карликовых шимпанзе-бонобо, имевший довольно примитивное строение по сравнению с нек. более ранними и совр. ему австралопитеками, но обладавший б о льшим объёмом мозга и живший ещё в начале эпохи архантропов, на самом деле подтверждает вывод о том, что и наиболее примитивные формы продолжали сосуществовать, эволюционируя, с другими более поздними и более «прогрессивными» видами. Совершенно естественно, что наиболее древние индивидуумы этого вида имели мозг, не превышавший по своему объёму средний показатель обезьян.
Каковы трудности палеоантропологии в формировании теории антропогенеза скажет любой антрополог: фрагментарные одиночные ископаемые находки не позволяют судить о многообразии древних антропологических форм и их популяций, и даже о т. н. «средних» индивидуумах той или иной группы, но в целом складывается общая картина морфологических изменений гоминид от эпохи к эпохе. Мы можем лишь предполагать с большей или меньшей степенью вероятности, чем было вызвано то или иное морфологическое изменение, легшее в основу дальнейшей эволюции. И как раз здесь, используя имеющиеся данные о совр. состоянии палеоантропологии и биологии, я пытаюсь создать мост, который прочно соединил бы прошлое с современностью.
Опять-таки любой биолог скажет, что с течением времени более универсальные формы эволюционной цепи завоёвывают большее географическое пространство в ареале по отношению к предшествующим и постепенно вытесняют последних, как локальные группы, в менее приспособленные для нормальной жизни районы, т. е. в иные экологические ниши, при условии, что не происходит процесс гибридизации (порой даже не посредством скрещивания, а в результате воздействия на организм одних и тех же вирусов) и предыдущая формация не «растворяется» в последующей (что вполне возможно, и часто имеет место). Однако дальнейшая эволюция может приводить (и часто приводит) к тому, что и в этих нишах появляются конкуренты, которые тем или иным образом способствуют либо исчезновению этих популяций, либо превращении их в эндемики – зачастую остатки некогда многочисленных видов, выжившие в каких-то нишах после изменения благоприятных природных условий. Наконец, есть и 3-й путь: под влиянием существенно изменившихся условий обитания – изменение вектора эволюции и получение новых, особенных морфологических черт, отличающих вид как от предкового, так и от родственных.
Человечество насчитывает порядка 8—10 млн. лет, и за этот период полного исчезновения ряда гоминид не произошло, т. е. они нашли себе определённые экологические ниши. Так, например, «дикий человек» (троглодит), как подвид азиатской гориллы, ведёт активный образ жизни в основном в ночное время и населяет те районы Евразии и С. Америки, где присутствие человека минимально или малоощутимо. То же самое можно сказать и по поводу архаических человеческих коллективов – например, андаманцах, негритоссах Малакки и Филиппин, койсанах и пигмеях Африки – архаичных не только образом жизни, но и нек. физиологическими и морфологическими чертами организма: так, у бушменов (койсанские народы) имеются единственные в своём роде особенности – атавистическая постоянная эрекция пениса у мужчин и жировые бёдра у женщин (выполняющие функцию наподобие верблюжьих горбов). Широкого их распространения не наблюдается. Занимаемые ими экологические ниши невелики (для койсанов – в основном пустыни Намиб и Калахари; только австралоидами занят целый континент, на котором ранее, однако, не существовало представителей других рас в силу своей географической изолированности). Легко заметны различия между представителями этих архаичных популяций и более продвинутыми в эволюционном плане монголоидами и негроидами, имеющими с койсанами нек. общие черты. Негроиды распространялись в древности – или населяют сейчас – не только в Африке, но и в Европе, на Кавказе, Б. Востоке, в Ю. Азии и Океании, куда проникли ещё в период нижнего палеолита. Ветвями их стали нек. аборигенные народы Индии, эфиопы, папуасы Новой Гвинеи, меланезийцы, тасманийцы. Это доказывает, что группы негроидов пытались осваивать другие географические регионы с иными климатическими условиями, но не смогли в них удержаться в силу своих физиологических и морфологических особенностей. Т. о. нет никакой основы для того, чтобы отрицать способность того или иного расового типа (вида) к заселению какой-либо географической зоны: необходим лишь стимул и время для адаптации. Однако, появление полиморфизма – расового многообразия, в значительной степени как раз и связано с определённой средой обитания и образом жизни (а также питанием).
Читать дальше